|
|
|
Ливиу Деляну
"Бессмертная молодость"
(повесть
о комсомольцах
Краснодона)
Государственное издательство
Молдавии
Кишинев
1958

|
|
Обложка книги
"Бессмертная молодость" |
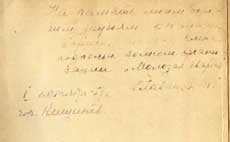
|
|
Надпись на книге:
"На память моим дорогим друзьям
от лица матери Бориса Главана
члена подпольной комсомольской
организации "Молодая гвардия"
1 октября - 59 г.
Главан З.Т. гор. Кишинёв" |
Перевел с молдавского Ю.
Александров
Оформление художника Я.
Авербух
* * *
Хочу я спеть о молодости славной,
о подвиге бессмертном
комсомола,
о юности,
что в битве,
столь неравной,
глухую ночь рассветом поборола.
Сыны труда, сыны эпохи новой,
не
отступив пред гибельной судьбою,
пошли вперед дорогою
суровой,
свершив свой
долг,
пожертвовав собою.
Хочу я спеть о
радостной отваге,
о доблести великой
комсомола,
о тех, кто знал,
что смерть их
- в каждом шаге,
в любой атаке против
произвола.
Не дрогнув пред фашистскими
штыками,
они хранили преданность
отчизне.
Они хотели быть большевиками, -
и стали ими, уходя из жизни.
Хочу я
спеть о дружбе нерушимой,
о чистом, светлом братстве
комсомола,
о тех, чей гнев
сжигал
неумолимо
врагов, душивших города и
села.
О тех, кто гордо,
не боясь
страданий,
когда кругом бесились
людоеды,
шагал вперед,
вперед, без
колебаний,
путем надежды, смерти и
победы.
Но как воспеть мне
те большие
чувства?
- Ведь силу слов удвоив и
утроив,
не передам я средствами
искусства
всю боль и страсть,
и
ненависть героев...
Когда я слышу ритмы
грозовые,
и эти строки рвутся на свободу, -
передо мной встают борцы живые,
их
жажда мщенья,
их любовь к народу.
-
Смогу ли я, трудясь и днем и ночью,
найти слова, в
которых правды сила
даст краснодонцев видеть
вам воочью,
постигнуть сердцем
все, что с ними
было?.
Но окунаю я перо в чернила.

|
|
|
I
Нашествие
Воют в небе вихри смерти
злые...
Трубы шахт уж больше не
дымят.
Опустивши головы седые,
У
порогов горняки сидят.
Нет огня в
холодных, мертвых топках...
И как будто слышится вдали, -
там, в тумане и в низинах
топких,
тихий стон истерзанной
земли!..
Редко тень скользнет
между домами,
лязг оружья нагоняет
страх;
встали черных виселиц
рядами
все деревья в парках и
садах.
Нет конца страданьям
Краснодона.
- Он теперь тюрьмой огромной
стал,
и такого сдавленного стона
Тихий
Дон давно уж не слыхал...
Лишь
в сердцах людских
жива свобода:
в них
светло,
когда кругом - ни
зги...
Но зачем бредет толпа
народа,
и куда ведут ее
враги?
- Молодых и старых
угоняют
на чужбину, в
рабство...
Но,
взгляни:
многие ночами убегают,
в старой шахте прячутся они.
В
штреке,
возле дальнего забоя,
там, где
тайну бережет земля,
в непроглядной тьме перед
собою
голоса людские слышу
я:
"Не затем трудились мы
полвека,
чтобы сдохнуть с голоду
теперь,
чтобы отнял все у человека
жадный,
подлый
и трусливый
зверь!.."
"Нет!
Нельзя
стерпеть такие муки!
Кто тут
жив?
- Ребенок, мать, сестра
иль
старик?..
- Бери оружье в руки!
Ждать
нельзя.
Сражаться нам
пора!"
Закрыты
ставни, двери на запоре,
трещит в коптилке чадный
керосин;
мать, молча, шьет,
с тревогою
во взоре,
а за столом читает книгу сын-
Но что с ним?
Что?!
Как трудно стало маме
в груди
волненье сдерживать свое...
Какую
мысль,
каких волнений пламя
сын за
страницей прячет от нее?
Мать
вспоминает:
был совсем недавно
ростком
зеленым крохотный сынок.
И развивался... и, смеясь так
славно,
тянул он к солнцу каждый свой
листок...
Она его качала в колыбели
и
усыпляла песенкой
своей...
Воспоминанья пуще одолели, -
они как на экране перед
ней.
Еще вчера был на вершок от
полу,
резвился он... и плакал... и
болел...
Вот первый раз отправился он в
школу
и красный галстук
в первый раз
надел.
И вот - он взрослый.
Ищущий,
пытливый;
высокий, крепкий, смелый
паренек...
Своею силой внутренней
счастливый,
был он спокоен, ясен и
глубок.
Любил он жизнь
и рвался к
знаньям новым,
хотел он пользы больше
принести,
и к испытаньям
трудным
быть готовым,
и все
преграды
одолеть в пути.
По вечерам
Олег читал запоем,
был в музыку и шахматы
влюблен...
Воспоминанья налетели роем
.
и окружили мать со всех
сторон.
Вот комсомольцем стал
он...
Был бы вскоре
он кем захочет,
только выбирай, -
когда бы не случилось это
горе,
когда бы немцы
не пришли в наш
край...
Еще вчера
сидел такой же
строгий
за книгой он вот так же у стола, -
но не было в глазах его тревоги,
душа
его спокойною была...
На сына глядя,
вздрагивает мама
и машинально шьет и вкривь и
вкось.
"Олег, родной, скажи мне
лучше прямо:
Чем ты измучен? Что с тобой
стряслось?
Ты болен? Или голоден?
Иль,
может,
устал сегодня?..
Лег бы
поскорей!.."
Но нет! Не голод юношу
тревожит.
Душа болит.
Но не усталость в
ней.
Конечно, мог бы сделать вид,
читая,
что не слыхал он шепота
Но
встал,
с неюношеской горечью
вздыхая,
захлопнул книгу
и потом
сказал:
"Мне трудно, мама!
Я
устал от гнета...
Невыносимой стала жизнь
раба.
Я думаю о том, чтоб делать что-то, -
теперь нужна борьба.
Борьба!"
Когда тебе шестнадцать
лет,
когда шестнадцать весен в
них
благоухал чудесный цвет
твоих
каштанов дорогих,
Когда вчера придти
ты мог
под сень раскидистых
ветвей,
мечтать; любить; и в даль
дорог
мечтою улетать
своей.
Когда над городом
сиял
широкий, ясный небосвод,
и ты
спокойно выбирал
дорогу, чтоб идти
вперед.
Когда над головою
цвел
твой флаг свободы и труда,
Когда
родимый комсомол
тебе стал дорог
навсегда.
Как могут, вольностью
гордясь,
твои шестнадцать юных
лет
стерпеть насилье, грязь, позор
И тотчас не восстать, в ответ?!
Нет! В буре, поднятой
войной,
не можешь ты бесстрастным
быть.
Народу станешь ты служить
и жизнь отдашь
за край
родной.
Быть может, кровью
истечешь.
Но ты, - как явор
молодой.
Тебя не вырвешь, не
согнешь;
лишь затрепещешь ты
порой...
Что ж удивительного в
том,
что на другой же день
была
комендатура вся огнем
обглодана
почти дотла!
Враги не могут
погасить
неумолимый красный свет.
Они
хотели б утопить
в крови твои шестнадцать
лет!
Гордись, дитя своей
страны,
тем очистительным огнем!
А сердцу пули не страшны,
коль ненависть созрела в
нем!
Руины...
Мрак течет рекой
вдоль улицы-
долины.
Ложатся тени
вкривь и
вкось,
и ветер
пулями, пробит
насквозь.
Сигнал!
Немецких шпор
звенит металл;
гремят копыта,
конь
храпит,
огонь
летит из-под
копыт...
Свистки
на площади
пустой...
Стой!..
Но парень
в темноте
бежит,
петляет,
прячется,
кружит...
Вскочил во
двор,
на крышу
влез...
Исчез!..
Коптилка на столе, треща,
дымила...
Олег читал, вихор свой
теребя;
а бабушка в углу тарелки мыла
и
что-то бормотала про себя.
А где же
мама?
В заводской поселок,
взяв
узелок,
она ушла давно,
чтоб свой
платок
и несколько иголок
сменять на
сало или на пшено.
Придет сегодня? Может,
заночует?..
В морщины спрятав
тысячи забот,
беду старуха
будто
сердцем чует,
волнуется,
к окну
подходит,
ждет...
На сковородке жарилась картошка, -
все ломтики пришлось
пересчитать...
Нарезать ли теперь еще
немножко?
Троим не хватит... Или
подождать?
На табуретку бабушка
присела.
Не хватит, нет, - как ни считай, ни
мерь!..
А мать, поди, с утра еще не
ела..
Вдруг сильный
стук
Потряс входную дверь,
и злобного,
прокуренного баса
донесся хрип:
- Эй,
отворяй! Скорей!
То волк-захватчик
по степям Донбасса
дошел
сюда,
до их родных
дверей!..
Олег
вскочил.
И бабушка на
внука
тревожным взглядом искоса
глядит.
Крючок и петли дребезжат от
стука...
- Ох, неспроста к ним ломится
бандит!
Дрожа от страха, заметалось
пламя.
Олег нащупал в полутьме
засов,
нажал его обеими руками
и
отворил, спокоен и суров.
Фашист
ворвался, оттолкнув старуху;
в углы штыком стал ударять
сплеча,
вспорол подушки, напустивши
пуху,
весь дом обшарил, яростно
ворча.
Все
обыскал;
увидел сковородку,
к ней
подскочил и, жару не боясь,
горячую картошку прямо в
глотку
себе он стал заталкивать,
давясь.
Жевал и чавкал, обжигая
губы...
Но бабушка в груди сдержала
стон.
Старуху локтем отпихнувши
грубо,
в буфете рылся торопливо
он.
Ощерившись, голодный и
свирепый,
в вещах копался,
рвал и
пачкал их,
и сыпал речью, ломаной,
нелепой:
- Их бин начальник
ошень
главный, - их!..
Олег, бессильный
помешать погрому,
сказал спокойно:
-
Что здесь ищешь, зверь?
Но тот не понял и пошел из
дому,
прикладом распахнув с размаху
дверь
- Ферфлюхтес
фольк!
Качнулась и
упала
коптилка на пол, -
будто бы
сама...
Одну минуту ярко пропылала
и
вдруг погасла...
Наступила
тьма...
Олег во мраке чуял каждой
жилой,
как страшно сердце плавится в
огне.
Он ощущал,
с какой железной
силой
все те же думы давят в
тишине.
Дверь запирала бабушка
поспешно.
Олег не слышал
и не замечал,
-
недвижно стоя в темноте
кромешной,
уйдя в себя, он думал и
молчал.
Он
ждал.
Так ветер
ждет в ночи
сурово
пред тем, как бурей
разразиться
вдруг.
В нем,
обжигая
душу,
зрело слово,
чтоб с новой
силой
прогреметь
вокруг.
Осенний день. Деревья за
окном
под струями дождя стоят
угрюмо.
Глядишь на них. И дума об
одном
тебя грызет, - одна и та же
дума.
А город полон мраком и
войной,
темницами, убийствами,
тоскою...
Скажи, какие мысли,
Кошевой,
тебя терзают, не дают
покоя?
Глядишь, не глядя...
Улицы
пусты.
Уныло капли в стекла
ударяют.
Какою тайной так измучен
ты?
Какие искры так в глазах
сияют?
С тех пор, как их зажег однажды
Ленин
они в душе
у наших
поколений.
Не замыкайся.
Думай
честно,
смело.
Мысль о
борьбе
в тебе
теперь
созрела!
Я знаю, что дорогою
своей
пройдешь ты твердо.
Ты других
разбудишь
и на заре
отправишься по ней
Из искры -
пламя.
В вихре грозных
дней
Ульяна,
Ваня,
Люба
и Сергей
пойдут с
тобой.
Не одинок ты будешь.
II
Гибель тридцати шахтеров
Тридцать шахтеров шли под дождем.
Тридцать людей,
неповинных ни в чем.
Кровь
запеклась
у них в волосах;
пыль под
глазами,
пыль на
губах...
Шли
под бряцанье тяжелых
оков,
окружены
штыками
врагов...
Дыша разбитой грудью
глубоко,
с трудом шагая по откосу
вниз,
шел впереди других
Валько,
директор шахты номер "первый
бис".
Шел с поднятой высоко
головой,
недавно - русой, а теперь -
седой...
Такого пыткой не сломать.
Но
нынче не могла б узнать
его и собственная
мать.
Осенний день уйти
спешил,
Холодный,
колкий дождик
моросил...
Валько на опустевшие
поля,
на край родной,
где спят
пласты угля,
на свой любимый город на
холмах
на терриконы,
на знакомый
шлях -
глядел с тоскою.
Знал он в
этот час,
что видит все в последний
раз.
Здесь, в Краснодоне, рос он,
был
любим
и уважаем.
Ведь сравняться е
ним
в работе до сих пор никто не
мог.
Не сосчитаешь,
скольким он
помог!
Вся молодежь хотела у
него
подземное освоить
мастерство.
Едва явились
немцы,
как
тотчас
строжайший
ими отдан был
приказ:
угля
как можно больше
добывать.
и всем шахтерам
на работу
стать.
Из них никто в подобную
беду
не попадал...
К любимому
труду
их здесь не принуждали
никогда.
Они исчезли, спрятались
тогда
в глубинах шахты, темных и
родных...
И вот
враги
на казнь уводят их.
Под
моросящим ледяным дождем,
босые,
хмурые,
безлюдным пустырем
они
шагали молча,
по два в ряд...
Казалось
им, что скорбный их отряд
по улице, туманной и
пустой,
сопровождают близкие
толпой:
вон там жена...
Вон мать,
сестра и дочь!..
Конец был
близок.
Наступала
ночь.
Но тридцать
смелых
гордо шли вперед.
Казалось
им,
что рядом - весь народ
их
провожает в этот поздний
час.
Сгущалась
тьма,
осенний день погас,
оделась
мглой
печальная земля...
Невдалеке
виднелись тополя.
Под сапогами хлюпала вода, -
по слякоти конвой шагал уныло
и
обреченных гнал
туда,
где в парке их
ждала могила.
Короткий путь. Но
длинный самый...
Тянулся долго он, - и
вот
окончился...
Над черной ямой
уже стоял фашистский
взвод,
У края рва, над вязкой глиной
с
шахтером рядом встал шахтер,
и каждый с думою
единой,
в молчанье, слушал
приговор.
Но не дослушали.
Ведь
знало
их сердце:
смерть
недалека!..
Слетели сами с языка
слова
"Интернационала".
"Вставай,
проклятьем заклейменный!.."
- они
запели.
Не могла
им помешать ни эта
мгла,
ни вражья злоба, ни
усталость.
Одна минута им
осталась,
но полной и она была.
Они
запели страстно,
дружно,
всю силу в
песнь свою вложив,
чтоб люди
там,
во тьме
окружной,
услышали.
Чтоб все, кто
жив,
предсмертный поняли
призыв.
Команда.
Залп.
В громовом гуле
слова
поющих утонули...
Горячий трепет их
сердец
прервал
свинец...
Конец.
По одному, по двое
упавших приняла
земля.
Так
тяжко падают в
забое
куски
угля...
Валько, еще живой,
поднялся
и на ноги привстал на миг,
и
над могилою раздался
в ночи его последний
крик:
"Мать... Братья! Люди!
Кто
здесь есть,
кто слышит, -
месть
убийцам!
Месть!"
И голос, молодой, звенящий,
казалось, где-то рядом с
ним,
раздался из глубокой
чащи:
"Валько,. мы
слышим!
Отомстим!"
А на рассвете, недоступный взорам,
вдруг начал кто-то
бой с врагом.
Листовок сотни были
по заборам
и по столбам расклеены
кругом!
Они белели всюду,
призывая;
горела правда в яростных
словах,
сердца народа гневом
зажигая,
в захватчиков вселяя смертный
страх.
Они
вели,
вели путем свободы
где каждый
мог достойной жизнью жить:
врагам Отчизны за свои
невзгоды
и за шахтеров павших
отомстить!
Напрасно телефоны
надрывались
и бегали эсэсовцы,
бесясь;
грузовики по городу
метались,
расхлестывая грязь, -
а по
задворкам рыскали
солдаты, готовые хватать и
убивать.,.
"Виновников",
исчезнувших куда-то,
не так легко
сыскать!
Их не нашли ни гибель, ни
темница.
Они пропали...
Но они -
везде.
Чтоб в месте новом появиться
.
и вновь укрыться,
неизвестно
где...
В кинотеатре согнанные
люди
нацистский фильм
смотрели...
Но во тьме
все думали о
том, что с ними будет,
у всех свое лишь было на
уме.
И в этот миг невидимой
рукою,
что в Краснодоне
бой вела с
врагом,
листовок ворох
прямо над
толпою
опять разбросан был
кругом.
Зажегся свет...
Но без конца
летели
листовки,
в воздухе
кружась...
Они неслись, подобные
метели,
на головы снежинками
ложась...
Опять по Краснодону
мчались
в бессильной злости
патрули,
кого-то разыскать пытались -
и не
могли.
И кто-то
снова,
делал то же дело,
с
отвагою,
не знающей границ:
шел
часовой,
а на спине белела
бумажка с
надписью:
"Проклятый
фриц!"
Враги друг с
другом
грызлись
озверело.
Увы!
Не помогало им
ничто!
В осенней мгле над городом
висела
непроницаемая
тайна:
Кто?!
III
Товарищ
Антон
День-деньской идет под
синим небом
смелый парень в рваных
сапогах...
Даже сам степной унылый
шлях
не расскажет,
где он был, где не
был...
Далека до Каменска дорога -
неспроста наш путник так
устал.
Только бы скорей добраться мог
он!..
Только бы никто не
помешал!
"Надо!" - повторяет он
упрямо. -
"Я дойду. Сегодня я дойду!" -
И старается держаться прямо,
напевая
что-то на ходу.
Приходил приятель
прошлой ночью,
тайно вызывал его за
дверь,
и они договорились точно,
что
и как он сделает теперь.
Он сказал:
"Я выхожу не медля,
пусть он ждет и отворит на
стук,
попрошу продать крючок и
петли.
Имя покупателя
"Кашук".
Юный путник,
расстегнувши ворот,
по дороге все скорей
идет.
Глядя на далёкий дымный
город,
он спешит,
он знает: слесарь
ждет!
Уже заря вечерняя
склонялась,
но путник наш по улицам
шагал,
и до проулка два шага
осталось,
где вход знакомый был в
полуподвал,..
Как сердце вдруг
взволнованно забилось
когда шагнул он молча на
порог
и постучал,
и дверь
приотворилась!..
О, если бы поэтом
стать он мог!
Тогда б стихи
он на
металле черном
писал огнем.
Писал бы
он о том,
как слесарь
в
мастерской
стоит над горном
с
горящим в бликах пламени
лицом.
Всю силу он вложил бы в
строки эти,
чтоб рассказать достойно про
того,
кто был пред ним.
Чтоб знали все
на свете,
каким сейчас увидел он
его!
Но слесарь подошел к нему и
сразу
спросил:
"Что
нужно?
Ты откуда сам?"
Тот
произнес условленную фразу:
"Я за крючком, из Краснодона,
к вам..."
Настороже они,
но каждый
знает,
что в это время думает
другой.
Улыбку пряча, мастер
предлагает:
"Крючков здесь
много,
выбирай любой!"
"Кашук" -
назвался парень,
и сейчас же
в ответ:
- "Антон" - услышал он.
И вот -
другой парнишка у дверей на
страже,
а возле горна разговор
идет.
"Листовки сам писал я,
все с
собою
принес я их.
Прочтете, может
быть?"
"Прочтем, конечно.
Дело нам
большое
с тобой сегодня надо
обсудить".
"Так
правильно;
- хорошая идея.
Но и
другим заняться нам пора".
Олег кивнул, стараясь вспомнить:
где я
встречал
его?
Давно?
Или
вчера?..
И речь его как будто бы
знакома.
Он слова "я" не скажет
никогда.
Так говорил их секретарь
райкома:
"Мы знаем", "мы учитываем"
...Да!
Лишь большевик от имени
народа
так говорит, спокоен и
силен.
Он, правда, был безусым,
безбородым...
Но это он, Гончар! Конечно
он!
Андрей
Гончар!
Теперь Олег уверен.
Он все
такой же:
так же сердцем чист,
и
делу партии родимой
верен.
Подпольщик,
друг
и стойкий
коммунист.
Он в Краснодоне
приходил когда-то
к ним в школу,
- в
каждый класс... и в зал,
где слушали его доклад
ребята...
Андрей Гончар.
Олег его
узнал!
"Да, трудно и опасно наше
дело!
Но ты, Кашук,
свой долг сумел
понять.
Весь комсомол мобилизуйте
смело
и действуйте!..
Мы будем
помогать".
Его в районе знали даже
дети...
Все ощущали, как отзывчив
он.
Кто в помощи нуждался,
иль в
совете -
в любое время
шли со всех
сторон.
"Ведь жизнь
одна,
и времени в ней -
мало,
прожить ее напрасно -
просто
грех!"
Вот что Гончар
говаривал
бывало.
Таким словцом
напутствовал
он всех...
Олег тотчас
же
вспомнил фразу эту,
и отвечал он,
думая о ней:
"Да, знаю,
что трудней
задачи нету,
но жизнь отдам я
родине
моей".
И мастер, крепко руку
пожимая,
сказал:
"В
борьбе
таким и надо быть.
Ты понял,
друг:
ответственность большая,
и
завтра же пора нам приступить".
"Не
бойся трудностей;
Скорее
отправляйся
и молодежь зови со всех
сторон.
Ее в отряд железный
постарайся
сплотить
скорей.
Спасайте
Краснодон!"
"Как буря бы кругом ни
бушевала, -
шагай, солдат!
В
сплоченье - наш успех.
ведь жизнь
одна,
и времени в ней мало,
прожить
ее напрасно, -
просто
грех!"
Олег с волненьем
слушал.
В то же время
стремился
мыслью он
вперед, вперед, -
к
задаче,
что стоит пред ними всеми,
к
оружью,
что вручил ему
народ.
И он сказал: "Доверье
оправдаю,
Андрей Ильич! Ой... виноват...
Антон"
"Да, вижу я, - меня ты
знаешь!"
"Знаю!
Как знает
вас
весь
Краснодон".
И в мастерской
молчанье наступило...
Из трубки струйка синяя
плыла...
Но в тишине бездонной, как
могила,
жизнь как металл
калилась
добела!..
А где-то рядом звук
раздался,
стройный
и
необычный...
Нет, он был знаком.
Ведь
это мастер спрашивал спокойно:
"А ты, Олег... Как стал ты
Кашуком?"
"Я?.. Не случайно...
Мой
отец так звался.
Мне это имя
дорого.
Ведь он
в дни революции под
ним скрывался,
врагами окружен со всех
сторон.
Ношу я по наследству это
имя,
вступаю я в такую же борьбу,
С
товарищами верными моими
мы
повторим
своих отцов
судьбу!.."
Антон
воскликнул:
"Можете
гордиться!.."
Потом,
поникнув на
минуту весь,
заставив волей
сердца
боль
смириться,
добавил:
"Сын...
Мой сын...
Он был бы
здесь.
Боролся бы и он с тобою
рядом.
Но он убит фашистами на
днях.
Я перервал бы глотку этим
гадам!
Им не
спастись.
Их неизбежен
крах.
Их замыслам, войскам и
государству
неотвратимый настает
конец,
хоть равных нет по злобе и
коварству
врагам
твоим!.."
И обнял, как
отец,
его за плечи.
"Будь же
осторожен.
И береги товарищей,
Кашук.
Ведь будет слежка...
И донос
возможен...
Нам нелегко уйти от вражьих
рук"
"И нелегко сражаться из
подполья
Будь на чеку!
Но в то же
время знай:
нужны порыв, решительность и
воля
И вера в жизнь,
в
людей,
в родной наш
край!"
"Вот, дорогой!" -
Антон остановился
и стал курить,
пуская молча дым,
но он уже немного
торопился
и продолжал:
"Не говори
другим,
с кем ты встречался..
Связь
наладим днями.
Тогда пошлем тебе отсюда
весть.
А ты советуйся почаще с
нами!"
Олег
кивнул
и подтянулся:
"Есть!"
Потом
спросил:
"Кого - связным
отряда?"
"Не торопись, от нас известий
жди,
и лучше девушку пошли, коль
надо.
Не так подозревают...
Ну,
иди!"
Уже светало. Заалели
крыши.
Эх! Как бы хорошо теперь
уснуть!..
Олег простился. Осторожно
вышел,
захлопнул дверь
и вновь
пустился в путь.
День-деньской
идет под синим небом
смелый парень в рваных
сапогах...
Даже сам степной
унылый шлях
не расскажет,
где он
был, где не был.
Одинок он?
Это
чувство ложно!
И его не знал он за
собой.
Как же одиночествовать
можно,
если родина твоя с
тобой?
Ведь
борьба
везде идет сегодня.
Всюду есть
такие; как Антон...
Красный
флаг
народом в небо поднят,
и
вовеки
не склонится
он!
IV
Достаточно и шестнадцати
лет
Весь
день
тревожным был
необычайно.
Стрельба, погоня...
Где-то
на краю
родного города
сегодня
тайно
три мальчика сошлись
решить
судьбу свою.
Иль трое
взрослых?
Да, сказать посмею,
что их
мужчинами назвать пора.
Хоть старшему из них,
Сергею,
семнадцать лишь исполнилось
вчера.
И вот теперь
они решить
собрались:
куда идти? Куда направить
путь?
Любые двери тотчас
закрывались...
Придется, значит,
напролом шагнуть!
Горели синим пламенем
живые,
пытливые, бесстрашные
глаза,
глаза орлят,
которые
впервые
взлетают ввысь, когда гремит
гроза.
Казалось, даже
время,
идя мимо,
в дверях
застыло,
словно
часовой.
А Ваня Земнухов
невозмутимо
рассказывал
про день
обычный свой:
"Листовки все
расклеил -
сделал чисто,
свидетелей
тому, конечно, нет.
Потом обезоружил я
фашиста.
Но был при нем один лишь
пистолет..."
Затем рапортовал
Сергей:
"Готово!
Все для пожара в
бане я припас".
Олег
сказал:
"Прекрасно!
Значит,
снова
они побегают у
нас".
Ночь напролет в своем приюте
тесном
друзья трудились, позабыв про
страх.
А искра
Прометеева
чудесным
огнем
сияла
в юных их
глазах.
Они
сидели,
планы составляя,
обдумывая
новые бои,
все время неуклонно
устремляя
к единой цели замыслы
свои.
Чего они желали в те
минуты,
стремясь неукротимо все
вперед?
Они хотели уничтожить
путы,
в которых исстрадался их
народ.
Кровавый узел, затянувший
руки,
пред взором их стоял и день и
ночь
они пошли бы на любые муки, -
хватило б сил,
чтоб Родине
помочь!
"Нас мало!" - молвил
Ваня.- "Что мы
можем?"
"Да, нас
немного..." - подтвердил
Сергей.
Но
возразил Олег:
"Другие
тоже
вступают в бой, -
найдем их
поскорей!"
И все
умолкли.
И Олег
далеко
умчался в мыслях и мечтах своих-
Сперва в борьбу вступил он
одиноко.
Теперь их трое...
Сколько
будет их?
Простерлась ночь
вокруг
пустыней черной...
Скользя
вдоль стен, по улицам он шел.
Во мгле найти пытался он,
упорный,
тропинку к свету...
И
нашел.
Нашел!
Листовки он приклеивал прилежно...
И вдруг
звезда,
взойдя на небосклон,
во мраке
засияла безмятежно...
"Не наша ли звезда!" - подумал
он.
Казалось,
шахта
излила
огромным
потоком
тьму
на спящий Краснодон.
Но
разгоралась
искра
в небе темном, -
как провозвестница
иных
времен.
Среди домов, придавленных
бедою,
Олег бродил, в раздумье
погружен,
и в этот миг под ясною
звездою
лицом к лицу
Сергея встретил
он.
"Куда ты,
друг?"
"Пускаюсь я в дорогу.
Идем со
мной,
мне этот путь знаком".
"Да, я
готов
идти с тобою в
ногу".
"Опасный путь!.."
"Я не
боюсь,
пойдем".
Как чайка бьет крылом над бездной моря
и мечется над
яростной волной,
так мысль Олега,
с
ураганом споря,
стремительно неслась во мрак
ночной.
Там шли к
нему
одной дорогой - Анна,
другой
- Попов,
за ним -
Арутюнян,
Шевцова Люба, Громова
Ульяна...
Потом пришел с Поповым и
Главан.
Они собрались у Олега
дома,
и сразу же Борис им
заявил:
"Военная наука мне
знакома,
и технику я тоже не
забыл!.."
"Нас мало,
да,
но мы сплотиться можем, -
сказал
Олег. -
За нами - весь народ.
Нас
будет сто!
Врага мы уничтожим
Итак
- вперед!
Смелей, друзья!
Вперед!"
Чтоб ненависть
дала врагам
ответ,
чтоб ты сумел
найти
себя
в борьбе, -
достаточно,
когда 16
лет,
16 лет исполнилось
тебе.
16
лет!
Когда громадный
открылся мир
впервые пред тобой.
Когда впиваешь ты душою
жадной
все тайны книг и ветер
голубой.
16
лет!
Когда впервые
в твоей груди
рождается любовь,
и в юном сердце чувства
огневые
волненьем первым будоражат
кровь.
16
лет!
Но разве может
их чистота
смириться пред врагом,
что хочет их
сломать
и уничтожить,
и в грязь
втоптать
огромным
сапогом.
16
лет!
О
нет!
Вовеки
ни свастика, ни ложь, ни
смертный час,
не истребят в советском
человеке
ту веру, что поддерживает
нас!
16
лет!
Когда отчизне
вы так
нужны,
кто сдержит ваш порыв?
Кто
сломит вас,
когда во имя жизни
вы
рветесь в бой, о смерти позабыв?
16
лет!
Сквозь тьму, пожары
и
непогоду
вам идти вперед,
пока
не протрубят фанфары,
что победил могучий наш
народ.
16
лет!
К бессмертной славе
неустрашимо вы стремитесь вдаль,
и
твердо мы сказать отныне вправе,
что снова закалилась
сталь.
V
Город - свидетель
всему
Сегодня видит
Краснодон,
как лучшие его сыны
нашли,
придя со всех сторон,
свой
путь в сумятице войны.
Главан и
семеро других,
в тени заборов и
домов,
скользят в проулках
городских,
и каждый действовать
готов.
За свалкой, около
шоссе,
на пустыре унылом,
в
ряд,
в колючей проволоке все,
бараки
жалкие стоят.
Военнопленных лагерь
там,
их привезли три дня назад;
на
ржавых петлях по дверям
замки амбарные
висят...
Солдат понурый
сторожит,
с винтовкой,
в куцых
сапогах...
Глазами злобно он косит,
как
пес, держащий кость в зубах
А восемь
юношей ползут
по дну кювета, вдоль
столбов;
наметив цель, сигнала ждут -
и каждый действовать
готов.
Осоловевший
часовой
за спичками полез в карман, -
и, как орленок молодой,
рванулся на
него Главан.
Враг оглянуться не
успел,
как шею он ему сдавил;
фашист
упал и захрипел,
и, выпучив глаза,
застыл...
Разрезан провод, свет
погас,
в одну минуту сбит
замок.
Родимый город в этот
час
гордиться их делами
мог!
Главан и семеро
других
бесшумно крадутся в барак;
на
нарах, грязных и сырых,
там люди дремлют кое-
как.
Лежат вповалку, без числа
они в
тяжелом полусне,
терзает холод их
тела,
и слышны стоны в
тишине...
Борис пробрался к
одному
и тронул спящего
рукой.
"Товарищ! -
он шепнул
ему.
- Свобода!
Всех
буди!
За
мной!"
Проснулись
пленные,
бегут
и скоро снова вступят в
бой.
За правду,
за
любовь,
за труд,
за жизнь своей земли
родной.
Сегодня видит
Краснодон.
как лучшие его
сыны
нашли, придя со всех
сторон,
свой путь в сумятице
войны.
Да! И другие в эту -ночь на
страже.
Они не спят. Отчизну защищая,
они идут по следу стая вражьей,
в
руках винтовки накрепко сжимая.
И на минуту собственные
раны,
и все страданья городом
забыты,
при виде дочери своей,
Ульяны,
встающей гордо для его
защиты.
А рядом -
Люба.
Против злобы дикой,
в победу
жизни и свободы веря,
дочь Краснодона вышла в бой
великий
На битву человека против
зверя.
Да, видит город
юных,
чистых, смелых
своих детей,
на
трудный путь вступивших,
оружье взявших воинов
умелых
и мстителей,
о смерти
позабывших.
Вот Сумский на углу
подстерегает.
Стреляет Виктор, промаха не
зная,
и снова пуля
хищника
пронзает,
и мечется от страха волчья
стая.
Но беспощадны дети
Краснодона,
все больше их.
У них
винтовки,
мины...
Смерть!
Смерть врагу!
Иного нет
закона.
Их действия бесстрашны и
едины.
VI
Клятва
Опять,
Олег,
беседуя с тобой,
товарищи
сидят,
готовясь в новый
бой.
Всю ночь не спите
вы,
детали обсуждая...
А бабушка
твоя согбенная, седая,
не хочет мирно среди
вас,
как тысячи других старушек в этот
час,
вязать иль вышивать, -
она
спешит куда-то...
Одев пальтишко,
серое, в заплатах,
она выходит в
сад,
укрыта темнотой,
и, гладя
бережно рукой
билет партийный
свой,
зашитый за подкладкой,
на пост
сторожевой
торопится
украдкой.
Голодная, промокшая до
нитки,
Всю ночь шагает от окна к
калитке
Вся зрение и
слух,
она во мрак ночной,
внимательно
глядит, как часовой.
Следя за
переулком,
за дорогой,
она при
каждом шорохе
с тревогой
готова
стукнуть в переплет окна.
Ведь путь
к победе бережет она!
А если сходит
все благополучно,
она сама с
собой
беседует беззвучно:
"Пусть
только сунутся, -
ко всем чертям
пошлю!
Уж вы не бойтесь: я не
сплю!
Не сплю!..
Я здесь, я с вами,
дорогие дети!.."
Как думаешь,
Олег,
хоть где-нибудь на
.свете
найдется ль бабушка такая, как
твоя?
Да, есть! - отвечу я. -
Есть тысячи таких!
И по венку
лавровому для них
история великих этих
дней
готовит в книге золотой
своей.
Морщинистые любишь ты
черты
и старческие мудрые слова,
ее
советы вспоминаешь ты
и думаешь: "Она
права.
Права!.."
И вместе с тем:
"Да сколько же ей
лет?
В сравненье с нею, кто угодно
стар!"
Дав порученье, слышишь ты в
ответ
"Все ясно!
Есть, товарищ
комиссар!"
Она с улыбкой, бережно, в
карман
кладет листовки и идет
туда,
где темнота и холод, и туман,
где стерегут опасность и беда.
Когда
Туркенич к ним заходит в дом,
она встречает, отложив шитье:
"Товарищ командир! Давненько
ждем!"
И ласково лучится взор
ее.
Как бабушка ста
внуков
в сказке той,
что знают все в
Молдавии у нас,
она вас любит,
любит
всей душой,
:в которой пламень юный не
угас.
В тяжелый
час,
в сырой осенней мгле,
гордится
эта светлая любовь
тем, что на милой угольной
земле
отцов-героев вы достойны
вновь.
Она поймет,
увидев ваш порыв,
стремленье
защитить свою страну.
Она гордится
вами,
ощутив
всей вашей чистой веры
глубину.
Она не может в эту ночь
уснуть.
Все позабыто, кроме
одного:
вступили вы на самый трудный
путь,
и вы клянетесь не сойти с
него.
И слышит
бабушка,
одна
под вишней стоя у
окна,
как в комнате, значения
полна,
настала тишина -
широкая,
бездонная,
такая,
что все молчат, ее не
нарушая...
Но вот
из дома, доносясь
едва,
полны волненья и отваги,
звучат
высокие
слова
присяги:
- Я, Олег Кошевой,
вступая в ряды "Молодой
гвардии",
перед моими боевыми
товарищами,
перед многострадальной моей
землей,
перед
народом
клянусь...
Сквозь ветер, что кусты колышет,
сквозь ставню и
стекло
старушка слышит,
как вслед
товарищи твои
губами,
которых битвы
пламя
успело в эти дни
коснуться,
клянутся,
клянутся,
клянутся.
Свидетельствует каждое их слово,
что гневные
сердца
бороться беспощадно,
до
конца
теперь готовы.
- Я, Иван
Земнухов,
клянусь!
Клянусь
исполнять
без всякого колебанья
любое
задание,
которое на меня возложат!
И бабушка подумала:
"Сыны
пошли путем отцов своих,
все потрясения
войны
поколебать не смогут
их".
Потом, Сергей, коптилкой
освещен,
шагнул вперед,
и слышит
бабушка, как он
клянется в свой
черед:
- Я, Сергей Тюленин,
клянусь!..
Клянусь, что я сохраню
в
самой глубокой тайне
все, что касается "Молодой
гвардии"
Клянусь!..
Клянусь, что я
отомщу
за разрушенные города и
села,
за кровь тысяч казненных
людей,
за страшную смерть
тридцати
шахтеров!
Вдруг -
шорох...
"Кто там?
Кто там у
ворот?!"
И бабушка в тревоге, молча,
ждет,
в кустах, укрывшись,
наблюдает.
"Нет! Это ветер..."
Вся
напряжена,
она с волненьем
продолжает
прислушиваться, стоя у
окна.
Ее седая голова,
в сыром,
холодном облаке тумана
так
горяча...
В ушах звенят слова,
что
говорит Ульяна.
- И если для этого
потребуется
пожертвовать своей
жизнью,
клянусь, что я отдам ее
без
колебания!..
"Клянитесь, - шепчет
бабушка, -
клянитесь;
опасностью
закалены,
любимой Родине верны, -
вы ничего теперь не побоитесь!"
И
слышит снова, зная наизусть:
-
Отныне я, Главан, клянусь...
Давно уж
силы нет в руках.
Не сосчитать
морщин
на лбу и на щеках.
А
сердце,
как у молодой,
с такой же
теплотой,
с такой же гневной силой
бьется,
как и у тех,
кто в этот миг
клянется,
спокойно, медленно, без
колебанья
произнося слова
святого
обещанья:
- И если я нарушу эту
клятву
из трусости,
или будучи
подвергнут пыткам, -
то пусть
имя
мое
и всех моих
родных
будет проклято
теперь и во
веки веков,
а меня пусть
карают
железные руки моих
товарищей.
Кровь за кровь!
Смерть за
смерть!
"Клянитесь, дорогие
дети!
Я, чем смогу,
вам
помогу!
Я постою, постерегу...
Теперь-то уж ничто на свете
поколебать не сможет
вас.
Я знаю:
даже в смертный
час
вы ничего не побоитесь,
внучата
милые
мои.
Клянитесь!..
Клянитесь!"
VII
Подпольная печатня
В
тучах дымно-мутных
спряталась
луна.
В улицах безлюдных -
тьма и
тишина.
Видно, к
непогоде
в небе эта
муть...
И спешит
Володя
свой закончить
путь.
Слыша лай
собачий,
замедляет бег.
Виден дом
незрячий,
где живет
Олег...
Но Володя
мимо
мчится, как стрела.
В небе -
клубы дыма,
на дорогах -
мгла...
Вот патруль
шагает,
звякнул автомат...
Парень
замирает,
напрягая взгляд.
За углом
таится,
две минуты ждет;
и опять, как
птица,
мчится он
вперед.
К темным стенам
жмется
прячась у оград...
Громко
сердце бьется,
и глаза
горят.
Он у тротуара,
под забор скользнул,
из-под бочки
старой
сверток
потянул.
Замер у колодца,
поглядел кругом
и назад несется, -
но другим
путем...
Скрипнули
ворота...
Нервы напряглись,
тихо
вышел кто-то.
"Это ты,
Борис?"
"Да, я жду, Володя!..
Поскорей пойдем".
И ребята входят
в затемненный
дом.
Глубокий сильный
голос
доносится оттуда.
Все слушают
Олега.
Он их сюда привел;
все силы, все надежды
извлек он из-под спуда.
На первое собранье
сошелся
комсомол!
Здесь комитет был избран,
здесь комсомольцы встали
в ряды
борцов, что служат
своей стране
родной.
Пред ними секретарь их.
И
ясно прозвучали
его слова, что думой
пронизаны
одной.
"Нас Родина
призвала.
Мы - молодые силы.
Мы
ей нужны сегодня,
нужны, как
никогда.
Здесь родились мы,
братья,
и время наступило
нам
защищать свободу,
наш дом и край
труда!"
Струной напрягся голос,
дрожит он от волненья,
и все ему
внимают,
как он,
напряжены.
И сам Олег при этом
как будто ощущает,
что страстными
словами
сердца
обожжены.
Текут
слова
то плавно,
то бурно и
кипуче,
слетают вдохновенно
с
горячих губ его...
И вслед, едва умолк
он,
Сергей вскочил мгновенно,
уже
сдержать не в силах
порыва
своего.
"Ты прав,
Олег!
Не сможет
враг одолеть
народа.
Нас больше не заставят
работать на других.
Пускай сильны
фашисты...
Но в битве за
свободу
людей советских воля
куда
сильнее их!"
И слово друг за
другом
берут, берут ребята...
Готов
здесь каждый к бою, -
полна отваги
грудь.
Про все, что накипело
сегодня
каждый скажет.
Ведь комсомол с тобою!
Не бойся! Сильным
будь!
Когда вошел Володя в
дом,
Олег рассказывал о том,
как он
сегодня,
идя по платформе
в немецкой
каске
и в немецкой форме,
удачно
миновав дозор,
листовки клеил на
забор,.
"Никто немецкого
солдата
и на путях не задержал...
При
этом было темновато,
наклеил вмиг я все, что
взял.
Всего лишь сотню...
А ведь мог
тогда
я тысячу пристроить без
труда!"
Но в этот миг Осьмухин, в
уголке
сидевший молча,
двинулся к
столу.
Держал он в поднятой руке
два
валика, похожих на смолу;
они между собой
соединялись
и на оси легко
вращались.
"Олег! - сказал
он,
очутившись впереди, -
Теперь и
тысяча - немного!
Погляди!"
Ребята
ближе подходили
и пальцем валики
крутили...
И каждый думал:
"Неужели
теперь печатать можно в самом
деле!"
И вспоминал Олег о
том,
как здесь они сидели впятером
и
напролет всю ночь писали...
Как палец прикипал к
перу,
а Ваня говорил: "Едва ли
сто
экземпляров сделаем к утру...
Вот
если бы станок...
Да где там!..
Такое не
осилить нам..."
Но возразил Осьмухин:
"Это
не так уж трудно...
Я бы
сам
его соорудил, пожалуй...
Да нет у
нас одной вещички малой,
но очень
важной.
Без нее нельзя.
Не выйдет
ничего, друзья!.."
"Какой же вещи
нет?" -
спросили все уныло.
Нет
шрифта..."
Люба вмиг
вскочила:
"Шрифт будет! Приступай
сейчас!
Ура! Печатня есть у
нас!"
- Уж Люба знает, не обманет,
-
Из-под земли она достанет,
что
обещала.
Ведь
она,
как только началась война,
стояла
у сарая, глядя,
как шрифт
ее
наборщик-дядя,
там, в огороде,
закопал.
Шрифт
будет!
Каждый
ликовал!
И вот, уже почти готова,
стоит печатня перед ними.
Теперь она
за словом слово
сумеет буквами
своими
народу правду рассказать
и
путь к свободе указать!
Ребята вкруг
нее стояли тесно.
Олег Володю
обнял:
"Вот чудесно!
Листовок
тысячи - теперь пустяк для нас.
Билеты комсомольские
сейчас
мы напечатать сможем,
наконец!
Все трудности упорство
побороло!
От имени ребят и комсомола -
спасибо, друг!
Ты просто
молодец!"
Слава молодежи нашей!
Слава!
Не страшна фашистская
отрава,
не страшны тебе полки
врагов.
Жить отныне ты имеешь
право
в благодарной памяти веков.
Для
тебя горят в Кремле знамена,
и грохочут пушки там,
вдали.
Для тебя - сиянье
небосклона
и цветенье радостной
земли.
Все, что жизнь твою переполняло,
все, что силы для борьбы давало, -
все, что было в эти дни с тобой, -
прославляет светлый подвиг
твой!
Пускай два эти валика
невзрачных,
чья речь оружьем сделалась в бою,
о временах суровых, горьких, мрачных
начнут сегодня летопись
свою.
Пускай они с сыновнею
любовью
к земле, простертой в муках и
слезах,
начертят гневом, пламенем и
кровью
свои слова на стенах и в
сердцах.
Пусть врагов
они сожгут,
как лава!
Слава молодежи
нашей!
Слава!
VIII
Разве можешь ты жить
иначе?!
Эти
дни,
что быстро
промелькнули,
стоили недешево
врагу.
Но
гестаповцы,
тюрьма
и
пули
вас на каждом стерегли
шагу.
Сколько
раз
ты утром
просыпался,
радуясь тому, что ночь прошла, -
если день один хотя б
остался,
значит ждут тебя еще
дела!
Да!
Вы понапрасну не
зевали:
расстреляли
полицейский пост,
эшелон с войсками
подорвали
и разрушили дорожный
мост.
Много ты хлопот имел
с врагами:
десять мин под рельсы
заложил
и своими юными
руками
сотню
пленников
освободил.
В эти
дни как будто все, что можно,
делал ты в
рискованной борьбе.
Отчего же на душе тревожно? -
Мало,
мало
кажется тебе!-.
Да,
немного.
Но еще осталась
на
сегодня уйма важных дел.
Если б мог пожить еще хоть
малость -
кое-что, пожалуй, бы
успел!
Непременно уцелеть
бы надо,
чтоб захватчиков презренных
бить,
ни минуты не давать
пощады...
Разве мог ты
по-иному жить?!
Деревня
Первомайка спит глубоко.
Забылись люди в
долгожданном сне...
Лишь
выстрел,
прогремевший
одиноко,
вдруг раздается в гулкой
тишине
и будит их.
И снова
спят они
и видят мира золотые
дни...
Ночь
августовская...
Край неба
мглистый
уже
алеет...
Брызжет
звездопад...
А трое юношей, в траве
душистой
на спинах лежа,
в
вышину глядят.
И разговор их задушевный
тих,
и теплый ветерок ласкает
их...
Сквозь
облачка,
покачиваясь
мерно,
плывет над ними лунная
ладья...
Увидев их,
сказали б
вы, наверно,
что это - неразлучные
друзья,
и может быть, один из них -
поэт,
читающий стихи про лунный
свет!..
Но так ли это? В самом
деле
околдовал их звездный
небосвод?
И позабыть они на миг
посмели,
что в двух шагах от них -
фашистский
сброд?
Конечно,
нет!
Внимания полны,
они
спокойны и напряжены.
Они
глядят
в глубины звездной
ночи.
Но взор их трезв
и
мысли их ясны.
Они в засаде, говоря короче, -
суровые участники
войны,
готовые сейчас рвануться в
бой,
готовые пожертвовать
собой.
Нельзя им ждать до
завтра.
Ведь
бандитам
удастся хлеб совхозный
увезти!
Мешки под
небом
там лежат открытым
и
ждут обоза, -
надо их
спасти.
Затем ли наши пот свой
проливали
чтоб негодяи этот хлеб
сожрали?
Нет!
Не допустят
никогда ребята,
чтоб чистое и честное
зерно
враги отсюда увезли куда-то,
чтобы убийцам
впрок
пошло оно!
Да разве можно хлеб
отдать,
когда голодных здесь не
сосчитать?!
Но кто же эти
юноши?
То люди,
которые в
лихие времена
за Родину свою стояли
грудью.
И в этот час,
когда в
огне страна,
они -
пример
народов дружбы
тесной,
свободной,
братской,
радостной и
честной:
сыны
племен,
пришедших в общий
стан,
Попов,
Главан,
Арутюнян.
На этот
раз
грабеж
фашистский не
пройдет!
Ничто таких
плодов
на свете не дает,
как
древо дружбы,
что взрастил
народ,
народам
братским
руку
протянувший,
в лицо
беде
бестрепетно
взглянувший.
Так трое побратимов
ныне
пришли на помощь неньке-Украине
"Смотрите,
спит!.."
Попов шепнул
ребятам,
на часового глядя.
И
они,
при лунном свете,
то
гуськом, то рядом,
к мешкам
ползут,
укрывшись в их
тени.
Прыжок, - и
вмиг
убрал врага
Борис,
Арутюнян с Поповым поднялись -
и тотчас все уснувшие
бандиты
поодиночке были
перебиты.
Когда
сыны
такие
у страны, -
она не будет у врагов
рабыней,
она им не отдаст свои
поля,
и землю, где лежат пласты
угля!
Едва лишь захлебнутся
часовые
в своей
крови,
здесь,
на полях
России, -
ребята хлеб украденный
сожгут,
но чужакам его не
отдадут.
Проснутся
люди
в деревеньке малой,
и
зарево уронит, как заря,
свой отблеск на
встревоженные лица.
Очнутся люди, тихо
говоря,
с надеждой
радостной
в душе
усталой:
"Пускай,
пускай
горит у них пшеница!
Знать
неспроста
там кутерьма
пошла...
Ведь это партизанские
дела!.."
IX Праздник
будет
Сквозь доски
ставен
свет не
проникает...
Своих
домов
никто не
покидает...
Но если
бы
осмелились вы
вдруг
войти в ночную
тьму
и поглядеть вокруг, -
то увидали б улицы
глухие
и ряд руин,
как
будто след стихии,
кирпичный лом и глинистые
рвы...
Тогда, наверное, подумали бы
вы,
что все дома пусты,
а
жители мертвы.
Но то была б
ошибка!
Город жив.
Он
борется,
оружья не
сложив.
Пусть он во
тьме,
усталый и
голодный,
но черпает он
свет
из глубины
народной.
Фашисты на
дорогах рыщут снова...
А в комнате у Вани
Земнухова.
коптилку пододвинувши к
доске,
ребята
в шахматы
играют в уголке.
Покуда нет
немецкого постоя,
они,
найдя
решение простое,
сидят, как и обычно, у
стола.
Но тайна общая
сюда
их собрала.
И даже мать,
сидящая на лавке,
не
знает,
что квартира - место
явки,
что здесь - организация
борцов.
Они собрались,
помня путь отцов,
для
подвига,
который вечно
станет
жить в памяти
народной.
Не устанет
о нем в
рассказах
молодежь
твердить,
и будет каждый раз
будить
он благодарность в поколеньях
новых...
- Бессмертна
память о годах суровых!..
Здесь просто в
шахматы
играют, как когда-то,
давным-давно знакомые
ребята...
А мама и подумать не смогла
б,
что в домике собрался целый
штаб!
Олег и Ваня, Уля и
Сергей
здесь принимают рапорт от
своей
связной,
едва
прибывшей из
отлучки.
Вытаскивая из
платка колючки,
волнуясь, Люба говорит о
том,
как добралась до
Каменска.
Потом
им шепчет
голосом
таким же
утомленным,
как встретилась с товарищем
Антоном,
как, "покупая петли", с ним
она
поговорить сумела
допоздна...
Все смотрят на
посланницу свою,
вопросами прервав на
полуслове:
"Сказала ты, что комсомол - в
строю?
Сказала ты, что все мы
наготове?.."
От жестов их
коптилка так дымит,
что Люба, улыбаясь,
говорит:
"Всем сразу не могу, - ведь я
устала!"
И на минуту тишина
настала...
А мать сидит на
лавке у окна
и глубоко задумалась
она
о днях счастливых
и
таких недавних...
А ветер
глухо завывает в
ставнях...
Но кто такой
Антон?
Известно то
Олегу
одному
из членов
штаба.
Другим не догадаться ни за
что.
Конечно, Люба, может, и могла
бы...
Но помолчать
она
умеет, как никто.
А
остальные трое представляют
его
героем,
грозным вожаком...
И
качествами сразу наделяют,
невиданными до сих пор
ни в ком.
И все же чем-то
он
им близок и
знаком...
Живет он в их воображенье
слитном
высоким,
сильным,
в кителе защитном;
у пояса,
конечно, пистолет...
Он молодой,
наверно...
Или - нет!
Под
новенькой фуражкою видна
красивая стальная
седина!..
Из тех, кто ничего не
испугались
и бить врага в тылу остались, -
он самый верный и надежный
друг,
он старый
партизан,
известный всем
вокруг...
А внешность у
него
точь-в-точь такая,
как у
любимого Чапая.
Участвует он в деле их
любом,
они частенько говорят о
нем
и выполнять привыкли
неуклонно
любой совет товарища
Антона.
Не всякому они
послушны так,
но он их
учит:
- Сквозь туман и
мрак,
сквозь
трудности,
препятствия
и
беды,
забыв о смерти, видеть путь
победы.
Его слова ведут
вперед
и силу слабым он
дает.
Коль есть сомненье в
чем-то у ребят,
они друг другу
говорят:
- Он так сказал.
-
Так поступил бы он.
И указания его -
закон,
который выполнят
во
что бы то ни стало.
Нет ничего, что их бы
удержало,
что их могло б
остановить.
Они должны -
и могут победить!
Ребята
знают,
что в бою
суровом
народ непобедим лишь
потому,
что он, Антон,
своим
спокойным словом
указывает всюду путь
ему.
Ребята
знают,
что когда
шахтеры
проникли в шахту
и
взорвали ствол, -
так приказал
Антон,
который
был впереди
и сам их вел.
С ним во
главе
приходят партизаны,
по
первому сигналу в трудный час
Он дал голодным
хлеб,
он лечит раны,
он
тысячи людей от казни спас.
Он на
устах,
он в их уме все
время.
Ребята знают:
с ними
всюду он.
И как бы тяжко
ни
было их бремя, -
вперед,
к
свободе
их ведет
Антон!..
А
мать,
на лавке неподвижно
сидя,
задумалась,
не слыша и
не видя,
чем занят за столом ребячий
штаб...
Бьет в ставни
ветер,
свет коптилки слаб,
но
этого никто не замечает,
и Люба свой
доклад
чуть слышно
продолжает:
"Террор и
кровь,
смерть,
голод,
цепи -
вот что
фашизм
принес в Донские
степи.
Они хотят народ поработить, -
поставить на колени и
сломить
достоинство и
честь,
и мужество, и
волю,
чтобы над нами поглумиться
вволю
и достоянье наше
отобрать.
Но этому, ребята, не
бывать!
Послушайте
слова
товарища Антона:
им
нас не победить!
Подобного
закона
ни у людей, ни во вселенной
нет.
Всегда ночную
тьму
одолевает свет,
и
гусеница ствол
свалить не
может,
и человека - зверь
не
уничтожит!"
Ребята на нее,
не отрывая
глаз,
глядят,
чудесный
слушая рассказ,
ей без конца вопросы
задавая,
узнать
желая
жадно,
горячо,
как выглядит Антон,
что он сказал
еще?
Еще сказал он: "Жизнь
одна у нас, -
ведь человек
живет
на свете только раз,
и
жизнь его
не может быть
напрасной:
она должна быть
гордой
и
прекрасной".
Ребята,
слыша эту фразу,
припоминают сразу -
кто говорил ее всегда
в дни
безмятежного труда.
С ней в час
беды
живется легче им.
И
вера крепнет с ней,
что смерть мы
победим.
И на прощанье,
руку пожимая,
сказал Антон, привет
передавая,
за славные
дела
ребят
благодаря:
"Недалеко и праздник
Октября.
Тому минуло четверть
века,
как наш разгневанный
народ,
прогнав царей, прогнав
господ,
свободным сделал
человека.
Нельзя нам забывать об этом
дне
ни в годы мирные,
ни на
войне.
И надо нам отпраздновать
его,
как следует.
Не бойтесь
ничего!
Ребятам передай:
мы
будем с вами, -
пусть действуют! -
и с этими словами,
волнуясь,
вынул он из-под полы
потрепанную книгу, -
Вот, орлы,
читайте, как
большевики умели
великой добиваться
цели,
как в Октябре
они
сумели
победить.
Такими же и
мы
должны сегодня
быть!
Вот эта
книга!"
Ваня
Земнухов
ее взял бережно,
и
при огне дрожащем
нить протянулась между
настоящим
и прошлым, -
тем,
что было в звуках
слов:
"...История... КП...
большевиков"
И
книгу,
Данную товарищем
Антоном,
Олег прижал к
груди
средь полной
тишины.
"Да, праздник
будет.
Вместе с
Краснодоном
Его
получше
мы отпраздновать
должны!.."
X
Знаменосцы
Год
сорок
второй
на
исходе.
Шестое число
ноября.
Простерлась в ночной
непогоде,
в крови и
пожарах
земля.
Придавлена горем народным
родная твоя
сторона,
в дождях и в тумане
холодном
сурово поникла
она.
Закрыты и двери, и
ставни...
Нависла над городом
тьма...
Но все-таки гость
полноправный
дорогу находит в
дома.
Преследуем всюду
врагами,
он входит
и люди,
любя,
встречают
его
словами:
"Октябрь!
Мы дождались
тебя!"
Оркестра далекие
звуки
доносятся с башни
Кремля;
сквозь ветер,
сквозь
горе и муки
их слышит во мраке
земля...
Все спит, все кругом
затихает,
и ночь бесконечно
долга;
и шорох любой
умирает,
убитый "Приказом"
врага.
Но кто же тогда вдоль
ограды
все ходит вперед и
назад?
Чьи неутомимые
взгляды
по улице спящей
скользят?
То Валя и
Клава.
В безлунном
затишье
опасности
нет...
Октябрь
им,
бесстрашным и
юным
струит свой немеркнущий
свет.
А на
заре
на кровлях
Краснодона
зашелестели алые
знамена.
Над парком, проржавевшим и
пустым,
они казались пламенем живым, -
таким горячим, ярким и
могучим,
что не закрыть его осенним
тучам.
Проснувшись, тот
огонь ребенок увидал
и ручкой
замахал,
и закричал:
"Там, на
дворе, смотри, там флаги,
мама!"
Все двери
отворились.
В небе,
прямо
над шахтой номер "первый
бис",
костры
багряные
торжественно
взвились!
Один пылает над
комендатурой,
такой придавленной и
хмурой.
Другой на дубе
вековом
горит негаснущим
огнем.
Вон полыхает
красным полотном
на чердаке, над слуховым
окном.
Вон, словно
факел,
яркий и веселый, -
над бывшей
школой!
Осенний дождь
холодный моросил,
но погасить
их
не имел он
сил.
Смотрели люди ввысь,
не уставая,
свет праздничный
встречая
с улыбкой теплой и доверчивой
такой,
как будто бы вернулся к ним
покой.
Еще вчера, светя
сквозь дни и годы,
вились вот так знамена их
свободы.
Да, четверть века
здесь,
над городом
родным,
пылал багряный
шелк
призывом боевым.
И
снова
знаменосцы их
народа
его взнесли под купол
небосвода!
Столпились
люди, забывая страх,
на
улицах
и во
дворах.
Они стояли с
мужеством суровым,
и их глаза светились блеском
новым.
"Товарищи! -
раздался голос вдруг. -
Ведь это праздник!"
Шепот
рос вокруг,
и знамя
каждое,
напомнив об
отчизне,
казалось символом спасенной
жизни.
И
каждый,
видя этот добрый
знак,
задумывался:
"Кто их
поднял? Как?
Не испугался, стало быть,
угрозы!"
В толпе
старушка
молвила сквозь
слезы:
"Спасибо им,
родимым!
В трудный
час,
нет, не забыли, не забыли
нас!.."
О, если бы она при
этом знала,
что сын ее способствовал
немало
такому делу,
что его
рука
там, в небе, держит алые
шелка!
О, если б знала, что
одно из них,
из тех знамен рассветных,
заревых;
зардевшихся над ночью
бесконечной,
ее фатою было
подвенечной,
что перекрасил в алый цвет
Сергей!
Но невдомек все это
было ей!..
Был подвиг
совершен,
казалось,
невозможный.
Вдруг в тишине раздался крик
тревожный:
-
Полиция!..
Промокшие
насквозь,
мгновенно люди, как
пришлось,
в своих домах испуганно
укрылись,
рассеялись,
пропал
и,
растворились...
Был и
Сергей в толпе, -
промокший и
босой,
он, с непокрытой
головой,
глядел
с улыбкой,
светлой и веселой,
туда,
где
красный флаг над школой,
им
поднятый,
торжественно
пылал
и утро жизни новой
предвещал.
Он вспомнил
дорогие времена,
когда
весельем
жизнь была
полна.
Когда они в "боях"
мужали
и в "знаменосцы" во дворе
играли.
Все школьники участвовали в
той
игре, задорной, смелой,
боевой.
Он шел вперед среди "огня и
дыма",
а "красные" за ним
неустрашимо
бросались в
схватку,
выполнив приказ, -
и "белых" побеждали каждый
раз.
Как весть успеха в битве
той опасной,
флажок на балке поднимался
красный.
"Убил врага, - наверх скорее лезь
и в знак победы
знамя там
повесь!"
Однажды
(вспомнить до сих пор приятно!)
себя
он превзошел неоднократно:
он десять раз
"границу" миновал,
на всех заборах
был,
спускался вниз, в
подвал,
на лестницу пожарную
взобрался,
хоть враг "осадой" помешать
пытался,
и к самой крыше,
из
последних сил,
свой галстук пионерский
прикрепил.
Флаг
в синеве
победно
развевался.
Враг
незаметно
улизнуть пытался.
А "красные" кричали со
двора:
"Сергей, урааа!" -
"Урааа, Сергей!" -
"Ураа!!"
Как были дороги минуты эти!
И, забывая обо
всем на свете,
он шел и
думал:
"Как чудесно
жить.
какое счастье "знаменосцем"
быть!.."
Олег, Борис,
Володя, Люба, Валя
его, казалось, так же
провожали...
Они, казалось, так же, как
вчера,
кричат:
"Сергей,
урааа!" -
"Урааа, Сергей!" -
"Урааа!.."
Но в этот
раз
уж не в игре беспечной
с
врагами он сражался--
И,
конечно,
не только лишь его
рука
ввысь подняла багряные
шелка.
Кругом враги,
война...
И больше нет
ребят...
И сам он не герой,
а
рядовой солдат.
Но мысленно, -
как будто шла игра,
он
закричал:
"Урааа!
Борис,
Олег,
урааа!.."
Да, -
школа позади...
И
юность миновала...
Тяжелая пора теперь
настала.
И на минуту охватила
дрожь:
а если
допытаются?!
- Ну что
ж!..
Но бегали фашисты по-пустому
между деревьев
и от
дома к дому.
Они
глядели
с
яростью
звериной.
Была под
каждым
флагом
надпись:
"Мина!"
Сергей на них исподтишка
смотрел
и думал:
"Да-а,
наделали мы дел!
Не
могут, гады,
из-за тонких
нервов,
понять, что это банки от
консервов,
Они же их бросали за
сарай...
Пускай теперь
побегают!
Пускай!
Не так легко им будет догадаться
и до
знамен добраться!
Пока смекнут, -
небось пройдут
часы.
Пускай,
Пускай
полают, псы!"
И в
небесах
живым огнем
отваги
пылали ярко праздничные
флаги!
А ты,
Главан?
На светлый флаг свой
глядя,
что делаешь ты в этот день
большой?
Какая мысль в твоем суровом
взгляде?
Куда сейчас ты устремлен
душой?
Сидишь ты в
парке,
где-то в самой чаще,
и
смотришь на опавшую листву,
сквозь дождик, так
уныло моросящий...
И видишь ты, как будто
наяву,
свое село в Молдавии далекой, -
свой Цареград.
Читаешь ты
вдали
живую повесть о судьбе
жестокой
своей родной, истерзанной
земли.
Там твой сад
плодовый объедают
полчища прожорливых
червей.
Эти думы сердце
закаляют
ненавистью огненной
твоей.
Видишь ты как будто мост
огромный,
прямо до Оргеевских
лесов.
Ты идешь
и слышишь
в чаще темней
посвист пуль
и
гомон голосов.
Ты
идешь,
незримый,
правду
зная,
с сердцем, полным горя и
любви.
Там твоя Молдавия
родная
борется в пожарах и
крови.
Потрясенный, ты
глядишь сурово...
Вот
враги.
Невидим ты для
них,
но готов сражаться
снова,
снова,
до
последней капли сил
своих.
Каждый лист
осенний
рдеет раной.
Кровь
знамен
горит
в ноябрьской
мгле.
в этот день, торжественно
багряный,
праздник
и в твоем
родном селе.
Но и там; как
в селах очень многих,
как в
десятках,
в сотнях прочих
мест,
в паутине страха и
тревоги
ползает проклятый черный
крест.
Под пустым, дырявым
ситом неба
видишь пред собою
впереди
женщину в
слезах
над коркой хлеба,
с
плачущим ребенком у
груди...
Вон старик, моля
напрасно бога,
тащится, хромая на
ходу,
чтобы у родимого
порога
умереть, в страданьях и в бреду-.
По мосту идешь, не
уставая,
и с надеждой слышишь,
наконец:
раздается песня
боевая,
зажигая тысячи
сердец!..
У опушки-скопище народа.
Видишь крепких, бодрых
стариков;
видишь смуглых и
чернобородых,
что похожи так на
гайдуков.
Много
их.
Они сильны и ловки,
и,
врагам внушая смертный страх,
держат автоматы и
винтовки
в жилистых, натруженных
руках.
Вот они, шурша
листвою желтой,
вкруг тебя толпою
собрались:
"Где ты был?" -
"Куда от нас ушел ты?" -
"Что ты делал в эти дни,
Борис?"
Ты стоишь пред
ними,
вспоминая,
как
солдатом стал ты,
как
упал,
от фашистов край свой
защищая,
раненый...
Как в
плен потом попал...
Как в
тылу немецком очутился,
проволокой ржавой
окружен,
но перед врагами не
смирился
и бежал оттуда в
Краснодон.
Партизаны
требуют ответа.
Вот
ответ:
"Я с вами, я - в
строю.
Я воюю в
Краснодоне.
Это -
битва за
Молдавию мою!
Вот как,
братья!
Враг один
повсюду,
бой один
идет
везде теперь.
Все равно, где воевать я буду, -
лишь бы изгнан
был
фашистский зверь.
На Неве, в Полтаве или в
Туле,
иль в Оргееве, -
одно
скажу:
если шлет моя винтовка пули, -
разве я Отчизне не
служу?
Взгляните,
братья:
Полыхает
пламя!
Сквозь мрак и
холод,
согревая нас,
там, в
Краснодоне,
огненное
знамя
отсюда ясно видно
в
этот час!
Вон
еще!
Глядите,
братья:
Это
руки братьев
ваших и сестер
темной
ночью,
словно весть
рассвета,
разложили праздничный
костер!"
Смотрят на тебя
друзья с любовью
Ты принес им радостную
весть.
там, вдали,
в полях,
залитых кровью,
поднялась
свобода,
зреет
месть.
Старый партизан с
тобою рядом, -
он целует лоб горящий
твой...
Мост
исчез...
Но с просветленным
взглядом,
с поднятой высоко
головой,
на скамейке той
же
в мокрой чаще
ты сидишь
и грезишь наяву;
все такой же дождик
моросящий
льется на опавшую
листву...
Вьются флаги и зовут куда-то...
Ты встаешь с ликующей
душой.
Рдеют флаги.
Их
зарей объято
небо нашей Родины
большой.
Серп и
молот,
символ ясных дней, -
там, на стяге, поднятом
тобою.
Он,
пылая
; надо всей землею,
светит и Молдавии
твоей!..
XI
В зимнюю
ночь...
У нового немецкого
"Приказа"
толпа шумит, загородив дорогу,
и каждая прочитанная фраза
рождает возмущенье и тревогу:
всем краснодонцам велено явиться
на "биржу" -
и попробуй
уклониться!
Олег, Сергей и
Ваня
у забора
читают
бумажонку эту.
Их
ненависть,
при зрелище
позора,
предателя
зовет к
ответу.
Едва ли документ грязней
найдется:
здесь полицай, презренный
держиморда,
что с радостью фашистам
продается,
Василий Сукин подписался
гордо.
Сергей сказал:
"Пора
прикончить гада!
Берусь
его
к чертям отправить
сразу!"
Олег
кивнул:
"Его
убрать
нам надо.
Давно
пора
искоренить заразу-
Даем тебе задание,
Сергей,
предателя
повесить
поскорей!"
Ночь...
Зима...
Глубокие
сугробы...
Кто стоит с винтовкой, полон
злобы?
В парке
пусто...
Резкий холод
жжет...
Кто стоит на страже у
ворот?
Кто стоит,
марая
тенью снег?
Неужели
это
человек ?!
На него глядишь,
глазам не веря:
человек с жестоким сердцем зверя?!
Да, предатель именно таков.
На любую подлость он
готов.
Это
Сукин,
подлый
полицай.
Продал он
врагам
родимый
край.
Продал честь и душу этот
зверь.
Братьями торгует он
теперь.
Сукин богатеем был
вначале,
чью мошну жандармы охраняли.
Год за годом, с помощью штыков,
отнимал он хлеб у бедняков,
и на горло наступив крестьянам,
он в долгу держал их постоянном.
Для соседа, жаден и жесток,
пожалел бы он и сена клок.
Ради двух гектар земли когда-то
он зарезал собственного брата.
За копейку этот подлый гад
и отца зарезать был бы
рад!
Только революции
победа
отобрала все у
мироеда.
Он метался, прятался, дрожал...
И однажды, ночью, убежал.
Скрывшись от закона, по
дорогам
долго он бродил в тряпье убогом,
до тех пор, пока, в недобрый час,
как-то приютил его
Донбасс.
Ничего не пил бы
и не ел бы
он для радости
одной:
сотни честных
жизней
он хотел
бы
уничтожить собственной
рукой.
Разве сердце этого
урода
не дрожит от ужаса
сейчас?
Разве не боится он
народа?
Ведь пришел его последний
час!..
Кто
там
в темноте к нему
подходит,
и врага заклятого
находит?
Чья рука,
сильна и
горяча,
вдруг сдавила горло
палача?
Сукин
стонет...
Падает
винтовка...
Вот на шее у него
веревка,
и веревку тянут все
сильней.
Кто же
мститель?
Кто, как не
Сергей!
И Борис, держа злодея
крепко,
рот ему заткнул своею
кепкой.
Намертво затянута
петля...
Чище стала русская
земля.
Ветку
эти юноши ни разу
не
сломали.
Сердцу их и
глазу
каждая былинка
дорога!
Совести послушные
приказу,
в этот час
они
казнят врага!..
Три дня
бурана и морозов жгучих...
Уснувший город -
в дымке снеговой.
Порой
луна проглядывает в тучах,
как лампочка шахтера под
землей.
Глухая ночь. Трещат под снегом
крыши...
Довольный тем, что так метет
метель,
Олег включает
радио.
Он слышит,
как в
тишине поет виолончель.
За нею скрипка нежная
вступает, -
знакомый вальс ведет рассказ о
том,
как на воде прозрачной
засыпает
прекрасный лебедь, поводя
крылом...
Разрядов треск... Неужто
неудача?!.
Олег готовит новое перо, -
через минуту будет
передача
последней сводки
Совинформбюро.
Вновь гул и
свист...
Но голос
человека
их
побеждает:
"Говорит
Москва!.."
И ловит напряженный слух
Олега
знакомые и нужные
слова.
Вот позывные, звоном
наполняя
всю
комнату,
слышны в тиши ночной, -
то "Широка страна моя
родная"
разносится в эфире над
страной.
И долгожданный голос
Левитана
сквозь мглу
снегов,
сквозь ветра дикий
вой
передает спокойно и
чеканно
скупые
строки
сводки
фронтовой.
Олег привстал.
С
горящими глазами
он
слушает,
и кажется ему,
что
солнце,
солнце яркими
лучами
глубокую пронизывает
тьму!
И вдруг,
охвачен
радостью великой,
стремглав он мчится в
кухоньку,
туда,
где, споря
над прочитанною книгой,
сидели члены штаба, как
всегда.
Он подбежал к
Сергею
и в
волненье
пробормотал, на стул упав без
сил:
"Вот, наконец-то!.. Наше
наступление!
Я говорил, что скоро...
Говорил!.."
Придя в
себя,
над картою
ребятам
читает и рассказывает
он
об окружении под
Сталинградом,
о величайшей битве всех
времен.
Пылают лица Вани и
Сергея,
и Уля с Любой, стоя у
стола,
внимают описанью
эпопеи,
что навсегда
В
историю вошла.
Метался
враг,
зажат в кольце
железном,
дивизии фашистов гибли
там;
сопротивленье стало
бесполезным
и армия
сдалась
на милость нам.
И наши, наступленье
продолжая,
идут на
запад.
Значит, близок
срок
освобождения родного
края,
и день победы
недалек!
И улетает Уленька
душою
в степную даль,
где
волжская вода
течет
спокойно,
унося волною
тела
врагов, добравшихся туда.
В
родных степях
омытый вражьей
кровью,
струиться будет в светлой тишине
наш тихий Дон,
что, данное
с любовью,
свое названье заслужил
вполне.
А до тех пор?
А до
тех пор мы будем
по-
прежнему
вести борьбу с
врагом!..
И Люба говорит:
"Расскажем людям,
пусть завтра город знает обо
всем".
Не нужно это
объяснять Ульяне.
Она сидит, склонившись над
столом,
и новых трех листовок содержанье
диктует Ваня за ее плечом.
Их надо отпечатать поскорее,
и до утра расклеить надо их.
Расклейка поручается
Сергею.
Работой
занят
каждый за
двоих.
Вдруг стук в
окошко...
Все
насторожились.
Так лишь Туркенич к ним стучит
всегда.
Наверно неприятности
случились,
раз он так
поздно...
Что там за беда?
Да,
это он.
Вошел,
угрюмый,
подавленный,
замерзший...
И, как
был,
измученный одной и той же
думой,
к рассказу тотчас
приступил:
"Ребята, дело плохо! Мы
узнали:
на "Бирже"
список.
Новый ход врага.
Тут
уцелеет кто-нибудь едва ли:
всех нас угонят к черту на
рога!..
Уже готовы
сорок
два вагона.
Что делать? Как
спастись?
И как спасти
людей?"
"Скорей спросить
товарища Антона..."
сказала
Люба.
Все согласны с
ней.
Как
прекрасны
небо и земля,
если
над путями юных лет
алое созвездие
Кремля
с вышины
струит
чудесный свет!
Тысячи дорог перед
тобой.
Выбирать
ты можешь
без помех
и идти свободно по
любой.
Места ведь достаточно для
всех!
Мир фашистов
весь
прогнил насквозь.
Начал он захватнический
бой.
Защищаться нам теперь
пришлось.
Что ж, -
сегодня
слово за тобой!
пусть
узнает
вражеский солдат,
что
суров
и ясен твой ответ,
что
куда сильней,
чем автомат, -
комсомольский тоненький
билет!
XII
Горит биржа
Метет
буран...
В просторах ночи темной
морозный ветер воет и визжит...
Пушистый снег повязкою огромной
на свежих ранах города
лежит.
Повисли звезды
цепью изумрудной
в разрывах
туч...
Но близится
рассвет.
Кто в этот час на улице
безлюдной
в снегу глубоком оставляет
след?
Жестокий
холод
колет щеки,
губы,
пронизывает тело до
костей...
Но крадутся вперед Сергей и
Люба.
Опасный путь!
-
Дойти бы поскорей!..
А Краснодон, охвачен зимней
стужей,
под белым одеялом крепко
спал...
Вот этот дом, который им так
нужен!
Проклятый
дом:
войдешь - и ты
пропал!
Здесь -
"биржа".
Знает Люба:
тех,
кто в списках,
угонят в
рабство
всех
в ближайший
день.
Стоит угрюмый дом,
и
в окнах низких
как будто залегла ночная
тень...
Но с завтрашнего дня -
конец напасти.
Не будет
"Биржи" с завтрашнего дня!
Она
исчезнет
в жаркой жадной
пасти
огня!
И Люба вспоминает, как однажды
сказала
Уля, видя наперед:
"Запомни,
Люба:
в этом доме
каждый,
как муха в паутине,
пропадет!..
Устроили они ловушку
эту,
чтоб на чужбину в рабство нас
угнать.
Но нам,
привыкшим к
радости и свету,
не примириться с
этим,
не принять
из рук
врага
проклятый хлеб неволи
Нет! Лучше смерть!
Отсюда
никуда
я не поеду.
К этой
доле
мы не привыкнем
никогда!"
И мысленно
как
будто повторяет
ей Люба свой
ответ:
"Нет! Никогда!
Мы не
уедем... Пусть огонь пылает.
Враг
пожалеет,
что пришел
сюда!.
Мне так же, как
тебе,
увидеть
больно
горящим
дом,
что строил наш народ.
Но ведь
людей
от жизни подневольной
такой пожар
спасет!..
"Об этом, впрочем,
говорить не надо.
Ведь Уля в штабе, -
знает без меня.
Она, как все,
удаче будет рада,
увидев блеск
огня!"
Как
холодно!..
А где же спички?
Вроде
в кармане
были...
Потерять -
беда!
Чуть светится, дрожа, на
небосводе,
последняя, лучистая
звезда.
Сергей глядит из-за
угла забора,
выслеживая сонных
часовых,
и думает при
этом:
"Скоро! Скоро!..
Сухие
доски загорятся вмиг..."
А
часовой запропастился где-то...
"Замерз? -
Погреем!
Будет здесь
тепло!"
В руках у Любы старая
газета...
Намазав клеем, лепит на
стекло...
Теперь немного
придавить.
- Готово.
Стекла
уж нет.
Волнуется
она...
Сергей ползет к углу забора снова.
- Нет никого.
Покой и
тишина...
Окошко
узкое.
Но, сбросив шубу,
и с
помощью Сергея,
кое-как
в
дыру влезает, изловчившись, Люба.
"Давай
бензин!.."
В руках бутылка-..
Так!..
Теперь
вперед.
Немного
оглядеться...
Ну, да - вот
шкаф.
Полным полно
бумаг.
Они должны прекрасно
разгореться...
Но отдается в сердце каждый
шаг...
Дрожь
охватила,
застучали зубы...
И
слабость неприятная в ногах...
Сама себя подбадривает
Люба:
ведь комсомольцы побеждают
страх!
Опять рука от холода
застыла...
Пора
спешить!
Ведь скоро
рассветет.
Она на стол стремительно
вскочила,
бензин оттуда на бумаги
льет...
Теперь на шкаф,
На
потолок, на стены!..
Вот папки, ящик, -
сотни жизней в нем.
Ведь
это списки! Списки!
Непременно
они должны
быть съедены огнем!
Пол из досок!..
Еще на стулья малость!..
Еще! Еще!
Куда девался
страх!
Бежит к окну.
Теперь
поджечь осталось.
Коробочка заветная в руках.
Вот пламя под ладонью;
замерцало,
как в раковине
розовой, оно, -
и золотистым отблеском сначала
тревожное лицо озарено.
Лети, жар-птица!
Легкий
шелест слышен.
"Сергей,
держи!"
Не чувствуя земли,
они
бегут.
Огонь и дым над
крышей...
И солнце разгорается
вдали.
Его
восход,
от зарева
багровый,
встречает пробужденный
Краснодон,
и радуется он надежде
новой,
и мстителей отважных славит
он.
А
пламя
развевается, как знамя-
Все ярче рдеет и горит
восток.
И шепчет мать холодными
губами:
"Проснись, Андрюша! Ну, вставай,
сынок!
Смотри:
пожар!
Сгорела "Биржа".
Видишь?"
И мальчика к окну подводит
мать.
"Теперь из дому ты спокойно
выйдешь.
Свободен ты. Тебя им не
угнать".
Свободен?
Нет!
Но лучше так,
конечно,
Чем где-то на чужбине, с
номерком,
жить, голодая и скитаясь
вечно,
сгибаясь, как скотина, под
ярмом.
Здесь, дома, даже слабыми
руками,
за деревом
скрываясь,
может быть,
еще
поднимешь ты, украдкой, камень,
чтоб в голову
врага им запустить.
Здесь миска супа для тебя согрета.
Ты будешь, получая свой кусок,
хотя бы знать, что не подачка это...
Ты будешь дома,
дома, мой
сынок!
Здесь у тебя и кровля
и одежда,
и можно не бояться нищеты,
и на освобожденье
есть
надежда...
А на чужбине
что бы делал
ты?!
XIII
Новогодний бал
До новогодия
осталась лишь
неделя.
"Герр
бургомистр"
совсем опух от
хмеля.
Его лицо
угрюмое
багрово.
Рассевшись за столом,
за словом
слово
прошенье
разбирая,
он зевает,
глядит в
окошко,
ловит муху,
и
опять
упорно
продолжает
читать.
"Многоуважаемый господин майор!
Мы хотели бы устроить
два-три концерта
с танцами и немецкой
музыкой,
по которой так
соскучились
офицеры Вашего
гарнизона.
Просим
разрешения
в клубе шахты номер "1-й
бис",
открыть под новый
год
мюзик-холл..."
Герр
Кригер перечитывает это
и смотрит, с недоверием в
глазах,
на худенького мальчика в
очках,
стоящего у двери
кабинета.
"Как звать тебя, сказал
ты?
Кто таков?"
"Я здешний
житель
Земнухов..."
Он
кланяется низко, до земли,
и шапку мнет в
руках...
"Да, мы б
могли,
хоть это,
может быть,
и слишком смело,
взять на себя такое
дело.
Вы были бы довольны нами -
певицами и плясунами,
и
музыкантами;
здесь пианино
есть...
Мы просим оказать нам
честь!"
Майор
сопит,
усердно
размышляя...
И Ваня вспоминает, что
"Кашук",
его в дорогу
провожая,
сказал, остановившись
вдруг:
"Напрасно, Ваня, ты к нему идешь, -
злодей хитер,
его не
проведешь".
Но...
Кригер
очень
благосклонно
промолвил:
"Гут! Я разрешаль
для жителей и
гарнизона
концерт и новогодни
баль!
Зер гут! Спосибо! До
свиданя!"
Ног под собой не
чуя, Ваня
спешит домой.
-
Вот это да!
Мы
победили.
Ведь сюда
они
эсэсовцев нагнали
не зря,
конечно,
и едва ли
работать
мы б теперь могли...
С тех пор, как "Биржу" мы
сожгли,
всех без разбору здесь
хватали,
допрашивали и
пытали...
Все
отвечали
заодно:
"Мы
спали...
Было так темно
и
холодно...
Лишь на
рассвете
увидели пожар в окошко
дети..."
Виновных немцы
ищут и сейчас,
и выход есть на этот
раз:
наш клуб и будет местом
сбора.
Бандиты догадаются не
скоро.
И кто бы тронуть нас
посмел,
коль бургомистр отныне
сам
"ансамбль"
им охранять
велел
и даже помогать
"артистам"!
Теперь натянем нос
фашистам!
Работать легче будет
нам.
Два дня прошло, и клуб
открыт,
и часовой пред ним стоит,
и не подозревает,
кого он
охраняет!
Несколько девочек
и мальчуганов,
раздобывших пару
баянов,
скрипку и
флейту,
кларнет и гобой, -
спешно готовят бал
городской.
Здесь репетируют к новому
году
песни Берлина, вошедшие в
моду.
В ожидании радостной
даты,
под окнами ходят
солдаты,
и догадаться не могут
они,
чем тут
"артисты"
заняты целые
дни...
Оркестр
играет:
"Принес я цветок.-
"
И дирижер
сбивается с
ног,
палочкой машет
и чуть
ли не пляшет;
в
ажиотаже
ругается он.
-
Жора, фальшивишь!
- Ниже на
тон!
- Нина, не в такте!
Легче!
- Сначала!
- Все
повторили! -Эх, подкачала!..
- О, дас ист
вундербар!
- Зер гут! -
похваливают немцы там и
тут.
И слушают прилежно,
и опять
того не знают,
что не
надо знать.
Лоб
дирижер все
время утирает,
и палочка в руке его
мелькает,
когда он шепчет в
паузе:
- Главан!
Оставь в
покое барабан
К сараю МТС беги
скорей
и пулемет
выкапывай.
-
Сергей!
Взрывчатку нужно вынуть из
подвала.
Крещендо! Си
бемоль!
Сначала!
Фашисты, слыша вальсы из окон,
не
знают, что немецкий эшелон,
который уголь из
Донбасса вез,
был в понедельник пущен под откос
благодаря "артистам", что сейчас,
как заводные, пляшут целый
час.
Они не знают и того, как здесь,
в нарядном клубе,
штаб
собрался весь,
постановивши, что под новый год
к ним ни одна машина в Краснодон
с подарками для немцев не
пройдет.
И вот -
стрельба
слышна со всех
сторон.
Олег и Ваня
скромненько молчат
и на гитарах песенку
бренчат...
С
утра
сам бургомистр
сегодня
сюда эсэсовца
прислал
узнать,
готов ли
новогодний
концерт?
Хорош
ли будет бал?
Не надо ли помочь
ребятам
и не мешают ли им
тут?
А если надо - пусть
солдатам
они лишь только
намекнут!..
- Нет,
нет!
Пусть знает господин
майор,
что дело шло прекрасно до сих пор! -
с улыбкой Ваня говорит солдату, -
достойно мы отметим эту
дату.
У нас репертуар берлинских
сцен,
новинки свежие.
Мы
песенки споем:
"Люблю тебя, люблю тебя,
Марлен!.."
И "Я хочу побыть с тобой
вдвоем!.."
Их любит господин
майор.
Желаем
ему
счастливым быть
и
поздравляем!
Вам
послужить
"ансамбль" наш будет
рад!
Солдат,
довольный, поспешил
назад.
Осталось несколько
минут.
Сейчас, наверное, начнут...
Зал полон.
Кригер тоже
тут.
Шум,
суета
и духота,
и дует в окна.
со двора.
- Ну,
Люба,
кажется,
пора!..
Девятый час.
Все в
сборе- Ждут!
Володя смотрит сквозь
глазок,
чтоб вовремя включить
звонок.
Вот первый ряд, где,
в ярком свете,
расселся
Кригер,
Вкруг него
все
офицеры.
Дальше -
дети,
шахтеры,
женщины..,
- Ого!
Без
счету
собралось
народу.
Полным-полно.
Стоят у
входа!..
Звонок -
и занавес взлетает.
На сцене
- "лес",
оркестр
играет.
Осьмухин - он
конферансье,
предстал во всей своей
красе:
в цилиндре, в туфлях и во
фраке;
перчатки,
франтовски
е баки...
Любезный отпустив
поклон,
с улыбкой возвещает
он,
сперва, конечно, по-немецки,
что первый номер будет
"детский".
- То небольшая
пантомима:
немецкий грозный
"волк",
и мимо
бегущий
русский "партизан"
(одетая парнишкой
Люба).
"Волк"
прыгает,
рычит:
"Иван!.."
и девушку толкает
грубо,
Но
тут
на несколько
минут
внезапно гаснет
свет.
Смятенье
и крики в
зале:
- Тшорт! Капут!
Свет
вспыхнул.
Стоя возле
рампы,
Володя, показав на
лампы,
свои приносит
извиненья:
"Авария! - совсем
пустяк.
Должно быть,
пробки...
Исправляет
их
молодой монтер...
Итак,
мы
продолжаем.
Выступает..."
А перед этим в темном зале
ребята (каждый был готов)
листовок сотни две раздали
со свежей сводкою с
фронтов!..
Концерт идет. На
сцене Люба.
Поет. Аплодисменты.
Смех...
Вдруг, распахнувши
двери клуба,
эсэсовец, толкая
всех,
пробравшись к
бургомистру,
хмуро,
шепнул:
- Горит
комендатура!
Ругаясь
и
хрипя от злости, -
чуть не хватил его удар, -
взбешенный Кригер на
пожар
несется;
с ним другие
гости
бегут, с оружием в
руках,
стрельбою заглушая
страх...
Но те, кто в зале
остаются, -
хозяева земли своей, -
поют и пляшут, и смеются,
и веселятся без гостей.
"Артисты" со своим народом
ликуют вместе:
- С новым
годом!
Комендатуру гложет
пламя.
Фашисты с ведрами, с баграми
танцуют около огня,
злодеев-партизан
кляня.
И зарево в ночи
морозной
встает из тьмы, как символ
грозный.
XIV
Предательство
Суровы,
смелы
и
сильны
идут сыны
большой
страны:
войска советские идут,
за
шагом шаг, туда, где ждут
их каждый день и каждый
час,
в истерзанный врагом
Донбасс.
Несет надежду их
поход.
Вперед!
Их ждет родной
народ!
Уж две недели, как дымит
и
полыхает горизонт, -
второй Украинский
гремит,
как великан,
шагает
фронт,
как ураган,
бушует
он,
освобождая Краснодон,
где -
кровь,
где - горе,
где -
тюрьма,
следы тевтонского клейма.
И,
отмечая каждый бой,
над далью дымно-голубой
сияет радуга во мгле,
мир
предвещая всей земле.
Сметая тысячи
преград,
сквозь эту арку наш
солдат
идет, взметая пыль дорог,
на
помощь тем, кто изнемог.
Но все еще
стонет в неволе,
в когтях у
врагов,
Краснодон.
Израненный,
корчась от боли,
по-прежнему
борется
он.
Грохочут бои две
недели.
Немецкие танки
ползут,
ночами,
под взвизги
метели,
во мраке кромешном
ревут...
Захватчики пьют и
горланят,
беснуясь в бессилье
своем,
боясь, что заря их застанет
в
окопах,
со смертью вдвоем.
Они уж
давно наготове:
бежать, поскорее
бежать!
Но штык, заржавевший от
крови,
они продолжают
держать
направленным
в грудь
непокорных,
не выпуская из рук, - '
и
виден,
меж пальцев их черных,
на
ручке фашистский паук!..
Ночами,
глухими ночами,
сраженье ведя за
Донбасс,
молодогвардейцы
встречали
решающий
огненный
час.
Они уже накрепко знали,
что
будет спасен Краснодон
по
плану,
который, как ждали,
пришлет
им товарищ Антон-..
Но дверь
отворилась.
Володя,
в
снегу,
задыхаясь,
вбежал:
"Нас предали!
Ищут!
Сегодня
облава
была.
Я узнал:
схвачены, как
партизаны,
Ваня,
Борис,
&
nbsp; Ульяна!.."
Сын,
верный матери-отчизне,
когда в опасности твой
край, -
отдай ты чистый трепет
жизни,
дыхание и
кровь
отдай!
Риск отныне слишком велик.
Скрыться всем! -
Отдан
приказ.
Развязавший клятву язык, -
будь ты проклят тысячу раз!
И
тебя,
и сердце того подлеца,
что
товарищей мог
предать,
проклянут
людские
сердца,
проклянет
родимая
мать!
Снег...
Ветер...
Бури вой...
Сугробы у
порога...
Олег торопится домой.
В
душе - тревога...
Он в дверь
стремительно вбегает.
Мать у окна.
Не
спит.
И, как всегда,
его мгновенно
понимает.
"Беда!
Нас
предали.
Что это значит -
ты знаешь,
мама!
Надо
уходить,
пока..."
"Да, милый, знаю-"
Мать не плачет,
но в сердце -
тяжесть и тоска.
Все ясно
ей.
В ее уме,
в ее
душе,
как собственные дети,
Ульяна,
Ваня...
И они в
тюрьме!
"А где Сергей?" -
"Уходит на
рассвете." -
"Нельзя ли подождать
немного?
"Нет, ни минуты ждать
нельзя.
Пора!"
"Куда же?" -
"К фронту. Нам одна дорога.
Уйти я
должен до утра!.."
Мать прижимает
голову его
к своей груди.
Они молчат
и знают,
что не осталось ничего -
одна
разлука...
Слезы подступают
к его
глазам...
Не вытирая их,
на мать
глядит он
долго и тревожно...
"Иди,
сынок!
Но только осторожно...
Да...
Надо к фронту...
Будешь у
своих".
"Прости меня! Так нужно было, мама..." -
Как ласкова, тепла ее
рука!..
"Ну, собирай...
Но лишнего - ни
грамма.
Дай полотенце, хлеб...
Не надо
и мешка.
Пусть будет узелок -
и лучше
малый!.."
Мать суетится.
"Вдруг
поймают!.. Нет!.."
Приходит
мысль:
"Оставил бы, пожалуй,
ты дома
комсомольский свой билет". -
"Я не
могу.
Ты, мама, знаешь это.
Ведь до
победы два шага.
Нельзя!
Я не могу
сражаться без билета.
Не поступили б так мои
друзья!"
Вмешалась тут и
бабушка:
"В дорогу
не брал бы,
внучек, - дома сберегу.
Целее будет-
Спрячу так, ей-богу,
Что никакому не
сыскать врагу!.."
Олег старушку
обнял:
"Не боюсь я, -
но не
могу;
спасибо за совет!"
Он
улыбнулся:
"Ну, а вы бабуся,
где
прячете партийный свой билет?"
"Он здесь, в подкладке..." -
и
вздохнула,
внука
по белокурым гладя
волосам,
и тоже улыбнулась:
"Ну-ка,
давай, -
небось, не сможешь
сам!..
Давай, зашью!..
Олег пиджак
снимает
и книжечку протягивает ей,
и
бабушка прилежно зашивает
билет в
подкладку.
Ну, теперь
скорей!
Часы
бегут.
О, если бы остаться
хотя бы на
день,
хоть бы до утра!..
Как трудно и
как больно оторваться
от самого
любимого!..
Пора!
Тяжелые минуты расставанья.
Но надо,
надо
поскорей
уйти.
"Так, до
свиданья!
Слышишь? До
свиданья!
До скорого!
Счастливого
пути!"
Метет
метель,
сбивает ветер с
ног,
светает...
Новый день
вступает на
порог.
XV
Сильнее
смерти
Как он попал
сюда?
Как это было?..
И что за лужа
красная под ним?
Что это голову
сдавило,
как будто обручем тугим,
как
будто камень лег на темя?..
И отчего соленый вкус во
рту,
а вместо
сердца
пустоту
в груди он чувствует
все время?..
И Ваня
Земнухов
пытается привстать,
но с
долгим стоном падает опять.
Едва он
веки поднимает,
как в левый глаз впивается
игла,
и в памяти провал
какой-то
наступает,
и вновь сознанье заливает
мгла...
А сквозь
решетку
льется струйка света
в тот
угол, где лежит он на полу;
снежинки бьют снаружи по
стеклу
и заунывно ветер воет где-то.
Цементный пол, щербатый
потолок
он сквозь ресницы видит, как в
тумане.
Как холодно!..
Застыли
пальцы ног...
А боль огнем пылает в каждой
ране.
Все
красное...
Как будто сотни роз
его
шипами прокололи.
И он не
чувствует,
как жжет мороз
из-за
невыносимой боли.
Как он попал
сюда?
Как это было?
Зачем он
тут?
Зачем?..
Зачем?..
Но память, наконец,
восстановила
все, что случилось перед
тем.
Вчера его
арестовали...
Гестаповцы ворвались в
дом...
А где
очки?
Куда они пропали?
Ах,
да...Солдат
разбил их сапогом.
И
вспоминается за сценой сцена...
Просторный кабинет, большой
диван,
где бургомистр лежит...
Глядит
он, как гиена:
"Мы ждали вас... товарищ,
партизан!"
Гестаповец, рассевшийся
удобно,
"Ду швейнехунд!" - бормочущий
сперва,
потом встает,
в лицо кричит он
злобно,
коверкая и путая
слова.
"Вся банда
поймана!
Никто не удерет.
Они
сначала запирались,
Но им раскрыть сумели рот, -
теперь
признались.
- Ну,
говори!
Настал и твой черед!"
Но
Ваня,
виду не подав,
невинность
полную
отлично разыграв,
и глядя с
изумленьем на него,
сказал: "При чем тут
я?
Не знаю ничего!.." -
"Не знаешь
ничего?
Да ты лисы хитрей!
Сказать
тебе,
что ты был в штабе? Да?
Таких
видал я много главарей.
Я вас умел приканчивать
всегда.
Надеюсь, в этом ты поверишь
мне?
Но жаль тебя: наверно хочешь жить?" -
"Хочу, конечно... Верю вам
вполне.
Но я не знаю, что мне говорить..." -
"Ну, не
упрямься.
Мы не помним зла.
Ты
хочешь пить?
Вот, на столе вода.
У вас
организация была?
А ты был в
штабе?
Признавайся!
Да?" -
"Но я об этом слышу в первый
раз..."
Так отвечал
он?..
Да, конечно,
так!..
Тогда его, наотмашь прямо в
глаз
ударил палача
наметанный
кулак.
Кровь потекла, залив
лицо...
Потом,
свои очки увидев под
столом,
Он наклонился, чтобы их
поднять.
Удар ошеломил его
опять,
и хрустнули очки под каблуком -
их раздавил подкованный сапог.
И
Ваня произнес, уже с трудом:
"Зачем же это? Я их так
берег..."
А немец, с неподвижным
взглядом,
бил,
ребра норовя
сломать...
Казалось Ване:
где-то
рядом
тихонько всхлипывает мать.
Он
бредил... забывался снова,
и
снова
трудно вспоминал.
Нет! О
друзьях своих ни слова
он не
сказал!
А немец, озверев,
ревел:
"Не скажешь, русский пес?
Не
скажешь?
Смотри, чтоб ты не
околел!
Теперь-то ты язык
развяжешь!
Вот! Видишь кнут?
Сейчас
тебе под ним придется
поплясать!"
Но Ваня самому
себе
шептал:
"Молчать!..
Молчать!..
Молчать!.."
И кнут свистел
и
обжигал,
и кожу рвал...
А немец
мерно
считал,
считал,
считал,
считал:
"Семнадцать...
Сорок..."
Сто, наверно...
Но Ваня даже не
стонал
Молчал он так же, как в
начале...
Потом сознанье
потерял,
и очутился здесь, в
подвале.
Странный
бред!..
Как будто чье-то
пенье
раздается в подступившей
тьме.
Что за узник вздумал петь в
тюрьме?..
У кого подобное
терпенье?!
Тут кричать бы впору до
надсада,
он, как зверь, от боли должен
выть...
Значит, если человеку надо, -
может он сильнее смерти
быть!
Легче стало
вдруг
от песни этой,
боль в груди
пропала от нее.
Звуками знакомыми
согретый,
он опять впадает в
забытье...
Кто
поет?
Какой товарищ сильный
здесь,
в неволе, так помог ему?
Кто поет во тьме, почти
могильной,
побеждая мрачную
тюрьму?
"Пой,
дружище!
Пой еще! Я верю -
ты из
тех, кто тверд в беде любой.
Человек не уступает зверю,
\
даже смерть увидев пред
собой.
Человек не встанет на
колени,
гордо он
идет в последний
бой.
Эту
песню
пел когда-то
Ленин.
Я хочу пропеть ее с
тобой!"
И, отогреваясь
понемногу,
Тихо пел он самому себе:
"Смело товарищи в ногу.
Духом окрепнем в
борьбе!"
Он стонал, но пел за словом
слово.
Непрерывный тряс его озноб.
И
рука дрожащая Попова
гладила его горячий
лоб.
Остановитесь,
прохожие,
там, где на водостоки
похожие,
вровень с почвою
у
обочины
окна узкие
зарешечены.
Слушайте, братья,
могучую,
самую гордую,
самую
живучую
песнь о несломленной
силе
борцов,
твердо идущих дорогой
отцов.
Мученики
&
nbsp;бывали едва ли
моложе тех,
что в
этом подвале,
спутаны медленной пряжей
страданий,
твердо о гибели зная
заране,
полною жизнью
живут:
борются,
верят,
поют!
Сквозь
темноту,
сквозь решетку
густую,
слышите, братья, их песню
святую?
Все Ване рассказал Попов
теперь.
Как вывели его в наручниках за
дверь,
как плакала,
как волновалась
мать...
"Не надо, я вернусь!" -
успел
он ей сказать.
Шел крупный, редкий
снег.
И где-то там, вдали
светлело
небо в золотой пыли.
Щипал ночной
мороз,
и Виктор на ходу
задумчиво
глядел
на яркую звезду.
Она мерцала
там, над головой,
как знак надежды, чистый и
живой.
И думалось ему, при этом, как
всегда,
что блещет над Кремлем такая же
звезда;
что ярко-красный свет,
лучащийся
во мгле, -
надежда всех
людей, живущих на земле.
И эта мысль бодрила в трудный
час,
и ясный, чистый свет в душе не
гас.
"Куда меня ведут?" -
Пощечина
в ответ.
Его силком втолкнули в
кабинет.
А там глазам
своим
он не поверил вдруг:
Борис
Главан пред ним -
надежный лучший друг!..
Наверно и его сюда затем вели,
чтоб
развязать язык...
Но тоже не
смогли.
Ничто их не заставит
говорить!
Железным шомполом
по
пяткам стали бить.
Нет, - он не знал,
что есть такая боль!
Его щипали,
жгли,
всыпали в глотку соль...
Но он
молчит,
молчит,
как будто целый век...
Да сколько же терпеть
способен
человек?!
Выплевывая кровь
и
сдерживая стон,
Главана в этот миг
услышал он.
"Я не могу
молчать.
Все,
все скажу я
им!"
Попов потупил взгляд -
предатель перед ним...
Но с радостью
услышал он тотчас:
"Старайтесь,
палачи!
Повесят скоро вас!
Да, да! Я
все скажу!
Ты слушаешь, подлец?
Я не
боюсь тебя,
я вижу твой конец!
Не
может смерть моя
остановить
рассвет.
Встает он над Кремлем,
ему
преграды нет!"
Тонкими, застывшими
руками
гладит руку Ванину Попов.
Задыхаясь и не помня слов,
шепчет
Ваня синими губами,
Удержать не в силах мелкой дрожи:
"Как же... девушки?.."
Да... Их
пытали тоже!..
Запор тяжелый
отомкнулся с лязгом...
Тюремщик появляется в
дверям,
у пояса
ключей бряцает
связка,
замок огромный
держит он в
руках.
- Ульяна Громова!
Никак уснули? -
оскалив зубы,
он как будто ржет.
Опять все силы
собирает Уля
и на ноги решительно
встает.
"Что ж это
будет?..
Где сейчас ребята?
Сумею ли
стерпеть я столько мук?.."
Ее ведут угрюмо два
солдата,
и чьи-то стоны слышатся
вокруг...
"Да, я сумею. Все перенесу я!" -
себе твердит без устали она.
Пусть
расстреляют,
пусть сожгут живую.
Я
все смогу.
Я вытерпеть
должна!"
Как долог
путь!..
Кровавый свет мерцает...
Болит
спина и ноют кисти рук,
а цепь на них бряцает и
бряцает...
Какой глухой, какой ужасный
звук!..
Вот камера. В крови и пол и
стены.
Плеть, молоток и старый, ржавый
лом...
Аптечный шкафчик с надписью "Венена"...
И ждет палач угрюмый за
столом.
- Ну,
барышня!
Вы что-то стали грустной!
Как? Будем говорить?
Теперь или
потом?!
И от его улыбки
гнусной
как будто содрогнулось все
кругом.
Но Уля неподвижна и сурова.
Молчания цена известна ей.
Пускай
палач ее пытает снова,
пусть будет боль еще, еще сильней, -
она не скажет им ни
слова!
Уж две недели пытка длится...
Да, две недели, день за днем,
гестаповец впустую злится.
Но под
железом и огнем
она как статуя застыла,
она в молчаньи напряглась...
Откуда
же такая сила
в девчонке тоненькой
взялась?!
Палач глядит звериным
взглядом,
под ноготь ей загнав иглу...
Потом он шприц наполнил ядом...
Очнулась Уля на полу,
с трудом
привстала на колени...
Но
опрокинулась опять
и тихо прошептала: "Ленин!.."
Палач ее заставил встать,
и пытка
продолжалась снова.
Скорей бы умереть! Скорей!..
Как прежде, ясно было ей:
она не
скажет им ни слова!
Но что еще
придумал Кригер?
Что?!
Пред ней
стоял он,
ухмыляясь грязно,
и
крикнул: "Раздевайся!"
- Ни за
что!
Палач бесился и рычал
напрасно.
Она не шевельнулась...
Он
сорвал
с нее лохмотья блузки белой,
и,
раскаленный,
зашипел
металл,
впиваясь в дрогнувшее
тело.
Да!
Раскаленную на дьявольском; огне,
звезду
железную,
пятиконечную,
они
прижали ей к спине...
Но не сломить
им искалеченную,
как прежде сильную,
как прежде гордую,
как жизнь,
упорную,
как мрамор,
твердую!
И цвет звезды горячей ал,
алее крови
человечьей.
И мясо съежилось, когда
металл
прожег
его!
Но, распрямивши плечи,
стоит Ульяна перед палачом,
подняв
спокойный, ясный взор.
И подлый враг читает в нем
свою судьбу, свой приговор:
жги,
жги меня живую, гад!
Никто из вас уж не
спасется.
Ведь колесо истории назад
не
повернется!
И
Кригер,
занося над нею плеть,
подумал
злобно,
что немец может умереть,
но
пытки не снесет подобной.
А эти дети, кажется,
сильней
огня, штыка и пули!
И стало
в этот миг ему страшней,
чем хрупкой, беззащитной
Уле.
Откуда столько воли в
них?!
Как выжечь большевистскую
заразу?
Таких людей, характеров
таких
не видел он еще ни
разу!
И эта мысль терзает, жжет
его,
и он хитрит:
" Москва сегодня
пала.
Теперь ты не теряешь
ничего.
Ну, говори!
Наверно ты
устала?
Скажи: где
Кошевой?
Доверься мне.
Победа ведь
на нашей стороне!.."
И
Уля
размыкает, наконец,
запекшиеся
губы:
- Лжешь,
подлец!
XVI
Стены заговорили
В
камере нетопленной подвала,
на полу бетонном, как
попало,
девушки избитые
лежат,
стонут
и от холода
дрожат...
Странно! Их сегодня не
пытали...
Но не стихла боль вчерашних
ран...
Мучит сильный голод,
и едва
ли
этот отдых без причины
дан...
Палачи опять готовят что-то...
Но не все у палачей в руках -
нет, не могут
снять они со
счета
радость жизни в молодых
сердцах,
что в груди еще
трепещут,
бьются,
самым чистым
пламенем, горя...
Назло пыткам,
девушки смеются,
о вещах забавных
говоря...
Вспоминают о родимой
школе,
возвращаясь к детству
своему,
и, на миг избавившись от
боли,
забывают мрачную тюрьму...
И
опять на сером, влажном своде
свой тоскливый взор
остановив,
говорят с надеждой о
свободе,
что придет, темницу
отворив.
Да! Войдет
простой солдат с
котомкой,
со звездой на каске
боевой,
распахнет он дверь
и крикнет
громко:
"Ну-ка выходите, кто
живой!.."
А в это время за стеною,
рядом,
и наяву, и в трудном, кратком
сне,
пять юношей,
с таким же
грустным взглядом
тоскуют об украденной
весне.
Кусочек неба, медленно
светлея,
виднелся сквозь решетку за окном...
И в этот час втолкнули к ним
Сергея,
его ударив сзади сапогом.
Вмиг позабыв про собственные муки,
к нему ребята бросились гурьбой;
он, улыбаясь, жал им руки
своею
окровавленной рукой.
И, словно на
собрании секретном,
бывавшем в тайниках глухих не раз,
вопросами в количестве несметном
вошедшего засыпали тотчас -
- Откуда
ты?
- Кто уцелел на воле?
- Где
на фронтах идут сейчас бои?
- Где
Кошевой?
- Ты из дому давно ли?
-
Не тронут ли родных?
- Как там
мои?..
В ответ он,
вкратце
рассказал о главном:
- Что
был уже на фронте, воевал,
под пулю
угодил
и в плен недавно,
недалеко от
Каменска, попал...
Потом бежал.
Устал.
Измучен раной,
домой
вернулся.
Не успел войти,
как схвачен
был дежурившей охраной.
И вот он
здесь,
в оковах,
взаперти...
Туркенич
жив.
В бои попал он сразу.
он
лейтенант.
И только лишь на днях
был
с рапортами в штабе он три раза
и там о наших говорил
делах.
Сам
генерал
выспрашивал подробно
про
немцев в Краснодоне...
И про
нас...
Как можно подойти к тюрьме
удобно?..
И где посты расставлены
сейчас?..
- Должно быть хочет
он
послать подмогу! -
волнуется
Главан. -
Они идут сюда!..
Нам
надо потерпеть совсем немного!
Как думаешь, Сергей, -
когда?
Когда?!
- Теперь уж скоро! Наши наступают.
Ждать остается
считанные дни!
И вот уже в глазах у
всех сияют
неистребимой радости
огни.
- А девушки? А Любу и
Ульяну
вы не видали?
Где они сейчас?
-
спросил Сергей, развязывая
рану.
- Тут, за стеной. Их тоже... как и
нас.
Он помрачнел.
Затих:
Еще дорогой
томила мысль об
участи подруг.
Теперь душа болезненной
тревогой
наполнилась
неудержимо,
вдруг...
Как пытку терпят хрупкие
такие?..
- Приободрили вы, ребята,
их?
- Не удалось. Все стены тут
глухие
Полным полно повсюду
часовых...
- Придумать надо что-нибудь друзья...
Нельзя ли?..
Ну-ка,
попытаюсь
я!..
Девушки отчаялись, устали...
Их под утро все-таки пытали...
Скорчившись, они сидят в углу
на
холодном каменном полу.
Только
струйка слабенькая света
говорит о наступившем
дне.
- Значит солнышко восходит где-то...
Тени пробегают по
стене...
Тишина невыносимой стала,
нестерпимо ноет голова...
И одна из
пленниц прошептала
первые какие-то
слова.
Пусть лекарство помогает мало,
-
все же боль
не так ломает
грудь...
- Уленька, ты нам бы почитала!..
Лермонтова лучше что-
нибудь...
Назло палачам своим
жестоким
Уля гонит смертную
тоску:
голосом охрипшим, но
глубоким,
произносит первую
строку,
и читает,
без конца
читает,
с каждым словом становясь
сильней.
Гордый Демон в тучах
пролетает,
но не может жить он без людей,
и, на миг найдя к добру дорогу,
клятву он священную
дает...
Голос Ули крепнет
понемногу,
как струна трепещет и
поет,
стройными аккордами рокочет
и
симфонией звучит
вокруг,
стены
крыльями раздвинуть
хочет
и взлетает...
Но смолкает
вдруг.
Голову склонила набок
чтица,
повернулась к девушкам
спиной,
и прислушалась,
как
птица,
к странным звукам где-то за
стеной.
Люба ухом; к плесени
припала,
сделав всем условный знак
молчать,
улыбнулась
и тотчас же
стала
кулаком размеренно
стучать.
- Девушки!
Морзянка!
Тише!
Там Сергей! Передает
привет.
Отвечаю... Вот! Он тоже
слышит!...
Новый стук доносится в
ответ.
Люба снова припадает
ухом:
- Говорит: привет от всех
ребят.
Главное, не надо падать
духом.
Наступленье.
Нас
освободят!
Отвечаю:
- Держимся, Сережа!
Мы потерпим.
Кто с тобой
сейчас?
Земнухов, Главан,
Осьмухин тоже.
Не сдавайтесь!
Я уверен в
вас!
Способ
найден.
Молодогвардейцы
могут все
друг другу сообщить.
- Где Олег?
Куда же мог он деться?
Без вести
пропал?!
- Не может
быть!
И, ушам не веря, Люба снова
повторяет этот же вопрос,
выбивая
вновь за словом слово...
Но поверить
все-таки пришлось.
Друзья мои в
камере!
Братья мои!
Какими словами
про муки,
про все испытания вам рассказать
Олега,
что с вами в
разлуке?!
В ту ночь,
в ту морозную
страшную ночь,
приведшую многих к
острогу,
и он, как Сергей, устремился на фронт,
пустившись отважно в
дорогу.
Свистела
метель.
Но хотя о друзьях
томила
тревожная дума,
его
согревал
комсомольский
билет,
зашитый в подкладку
костюма.
Едва загорелся холодный
рассвет,
Олег был захвачен
врагами,
допрошен
и
брошен
в такой же подвал,
и ржавыми
скован цепями.
Как
вы,
он несчетные пытки прошел,
как
вы,
не промолвил ни слова,
с
презрением глядя на гнев палачей
и губы сжимая
сурово.
Молчал он все
время,
покуда враги
его истязали
умело,
безмолвствовал гордо
он даже
тогда,
когда голова
поседела.
Он
выдержал
и не сказал ничего
своим
палачам разъяренным,
хоть герб выжигали на коже
его
гвоздем, добела
раскаленным.
Когда же явились за
ним,
чтоб вести
его на последнюю
муку,
шепнул заключенному он
одному,
пожав на прощание руку:
-
Товарищ мой!
Завтра,
когда над
землей
появится солнце, сияя,
скажи
моим братьям,
всем людям скажи,
что
клятву сдержал до конца
я!
XVII
Последний путь
Какое ясное
сегодня утро!
- Солнце! -
шепчешь ты,
проснувшись, как
всегда.
Солнце
светит так тепло и мудро,
даже сквозь решетку
проходя
сюда.
Словно говорит оно
уставшим,
что Советской Армии полки
движутся форсированным маршем
и
от города
уже
недалеки...
Но с лязгом отодвинуты
засовы.
Сергей, с размаху,
на
бетон упал
и хрипло шепчет:
-
Будьте все готовы!
Ребята, дело плохо.
Я
узнал...
Теперь, когда совсем уж
малый срок
осталось узникам
томиться,
и долгожданный час так
недалок,
когда замки
падут с дверей
темницы.
Теперь, когда, бледнея,
палачи
ждут неминуемого краха,
и
слышишь ты, сквозь стены,
как в
ночи
они вопят
и мечутся от
страха.
Когда выходишь, в мыслях, из
тюрьмы
и всех прохожих
обнимаешь,
встречаешь солнце
после
долгой тьмы
и радость жизни
ощущаешь.
Теперь, когда, в мечтах,
проходишь ты
среди могучих шахт и
домен,
и видишь вдруг,
что дали вновь
чисты,
а мир прекрасен и
огромен.
О, как жесток мечты твоей
полет,
как тонет все
в мучительной
тревоге,
когда стоит победа у ворот,
а
ты узнал,
что смерть уж на
пороге!..
Смерть! Глаза твои так
бездонны...
Но мы не
боимся.
Каждый готов.
Здесь только
сотня нас,
а вокруг -
миллионы,
миллионы
молотов,
миллионы
серпов!..
Если юношей
сотня
погибнет сегодня, -
миллионы
останутся жить,
нашу борьбу
продолжая.
Смерть!
Впустую маячишь
ты,
нам
угрожая!
Смерть!
Мы решили тебя
победить!
Так думает, урывками,
Сергей,
лежащий на полу
с
подвернутой рукою.
А боль в глазах терзает все сильней,
и залиты они чернильной
тьмою...
"Ребята, дело плохо!.. Завтра
нас..."
А сердце бьется глухо и тревожно...
"Нам не спастись уже на этот
раз..."
Он до сих пор ни разу не
дрожал,
его ни разу пытка не сломила, -
он выстоял,
когда палач
держал
перед глазами
огненное
шило.
И не от страха вздрогнул он
теперь,
а от обиды, -
яростно тоскуя,
что смерть пришла,
когда свобода в
дверь
уже стучит, уже гремит,
ликуя.
Что не увидит, подло ослеплен,
как руки солнца
лед ломают в
реках.
Ах, если б жил, почувствовал
бы он
хотя б тепло
его лучей на
веках!..
Сергей поднимается
и пытается сесть,
чтобы девушкам
весть
передать.
Он стучит.
Минута одна -
и стена
обретает голос
опять:
Говорит
штаб!
Последний
приказ!
Утром
на
смерть
выведут нас!
Крепко держаться
обязаны мы.
Твердыми быть,
назло
палачам.
Выйдемте все, как
один,
из тюрьмы
с песней любимого
Ильича!..
Люба,
ощупью,
ржавым гвоздем
на стене
выводит с трудом:
"Прости меня,
мама!
Это последняя ночь.
Завтра в
землю сырую
уйдет твоя
дочь!"
Как быстро уходят
часы!..
Как близок день.
Это
значит,
что тьма приближается
снова.
Сквозь черное сито решетки
маячит
угрюмая тень
часового.
Пожизненно верные долгу и
чести,
ступая спокойно и строго,
сто
юных
опять собираются вместе
у
двери железной острога.
С оружьем ведут их из камер солдаты.
Не выйти из смертного круга;
и
узники рядом, у двери проклятой,
встают, ободряя друг
друга.
Сбиваются в
угол,
согреться пытаясь,
и ждут к
отправленью сигнала,
и шепчутся
тихо,
порой улыбаясь...
А жить
остается так мало!..
Засовы
гремят.
И в ночном небосводе
от ужаса
вздрогнули звезды,
и узников поодиночке
выводят,
на жгучий, неласковый
воздух.
Стоят в переулке четыре
машины,
эсэсовцы ждут у
забора.
Нет!
Неописуем оскал их
звериный,
невыносим он для
взора!
И в кузов они обреченных
втолкнули
и крикнули что-то
шоферу;
моторы взревели,
машины свернули
и стали спускаться под
гору.
Сергей
поднялся
и запел,
и
вставали,
вставали товарищи рядом,
и
их голоса сквозь метель зазвучали,
как свист наших русских
снарядов.
Та песня неслась в
заснеженное поле,
и ветер ее
уносил.
"Замучен тяжелой неволей,
ты
славною смертью почил!.:"
И силою их голоса
наливались,
и гневом кипели сердца,
и
жаждою жизни они разгорались,
и не боялись
конца.
Солдат
бьет прикладом,
грозит
пистолетом.
А песня,
жизни
полна,
звучит и звучит...
И знают об
этом
ночь, степь и
луна.
Но вот за звездою звезда
угасает,
и небо подернулось мглою...
Сбираются тучи, и вновь начинает
метель бушевать над землею. -
Машины грохочут в ночной
непогоде,
внезапно они умолкают,
и
сто обреченных
на землю
сходят.
"Сюда!.."
- палачи их
толкают.
"Сюда!.."
Значит - шахта, забытая всеми,
колодезь, давно
бесполезный,
зияющий смутно в предутренней теми
своей стометровою
бездной...
Внезапно, на миг, тишина
наступила,
туманная и ледяная,
такая,
какою полна лишь могила,
голодная пропасть
земная...
С одной стороны, как
утес,
непреклонно
стоит "Молодая
гвардия",
и словно
незримо склоняют
знамена
пред нею Народ и
Партия.
С другой -
палачи,
убийцы,
бандиты,
достойные лишь презренья...
Их
руки
кровью невинных покрыты.
Нет
им вовек
прощенья!
Вот
один
подошел к Ульяне,
но
вдруг
задрожал,
побледнел...
Весь горизонт
запылал в урагане
красных,
громовых
стрел!
Немцы в
тревоге,
не понимают,
еле стоят на
ногах...
Видно, недаром
их донимает
неодолимый
страх!
- Это "Катюша"! - кричат
девчата,
глядя на гнусных слизней,
и
сотня сердец
мгновенно объята
вспыхнувшей
жаждой
жизни.
По сотне
лиц
пробегают на миг
надежды
светлые блики...
На краткий миг...
И в единый крик
сливаются гневные
крики...
Палачи беснуются
с пеной у рта -
полна
обреченными
штольня.
У
ленька - Уля!..
Она уже там...
Теперь
ей уже не больно...
- Близко свобода! -
слышится зов.
Это
голос Главана.
Он зубами
рвал бы врагов,
если б не цепи
и
рана!..
- Убивайте, проклятые!
Мы
победим!
Яростно он
повторяет.
Опустился
приклад,
занесенный над ним,
и
пропасть его поглощает...
А на
заре
запела труба
над снеговой
крутовертью,
прославляя
навеки
тех,
чья судьба
стала дорогой к
бессмертью.
XVIII
Развевается знамя
победы
Город полон жизнью,
шумом и
волненьем.
Взвод кавалеристов
замедляет шаг,
слышен танков грохот
где-то в отдаленье,
в синеве
глубокой
вьется красный
флаг.
Овевает лица
вольный вешний ветер,
вольно звуки
песни
над землей летят,
из домов
выходят
матери и дети,
и шахтеры к
шахтам
радостно
спешат.
В парке раздается
стройный марш победы.
Подошел к
вокзалу
первый эшелон.
Позади
остались
ужасы и беды.
Навсегда
свободен
город
Краснодон!
Но музыка смолкла.
Печально и долго
проходит колонна
людей:
шахтеры, солдаты,
старухи,
ребята
и сто, ровно сто....
матерей...
С беззвучным! оркестром,
к знакомому месту
рядами шагает
народ.
И над головами
багряное
знамя
по воздуху тихо
плывет.
Несет это знамя
боец с орденами,
и люди глядят на
него,
на символ победы,
печалью
согреты,
не в силах забыть
ничего...
А рядом с
солдатом,
со знаменем рядом,
идет
человек, молодой,
спокойный и
твердый,
победою гордый,
но с белой
совсем головой...
И около могилы
свершивших славный подвиг,
преодолевших силу
врагов слепых и
подлых,
у места, где почили
народные герои,
вошедшие в легенду
всей жизнью молодою,
что сделалась
примером
для новых поколений,
примером гордой чести,
не вставшей
на колени,
под юною
листвою,
под синим
небосводом
весны,
уже
наставшей,
и перед всем народом, -
Туркенич
опускает
пылающее знамя,
берет он шелк
багряный
обеими руками
и, стоя
смирно, складку
к своим губам
подносит
и воинскую клятву
сурово
произносит:
"Клянусь я, что не
сброшу
армейские погоны,
покуда
всех фашистов
навеки не
прогоним!
Мы с братьями клянемся:
оружия не сложим
пока убийц
проклятых
мы всех не уничтожим!"
Струится по лицу
свет солнышка,
лаская,
и мысль в душе бойца
звучит,
не умолкая:
"О, если я не пал,
родные,
вместе с вами,
остался, уцелел
и бой веду с
врагами!.."
Склоняет влажный взор
и
мысли не кончает...
Но ясен жизни
путь
и цель он твердо
знает.
Как
ярко
красный шелк
в руках
его
пылает!
Какой чудесный
блеск
в его
глазах
играет!
И, отходя
теперь
от дорогой могилы,
он кажется
тебе
гигантом,
полным
силы,
несущим над
землей
возмездья
меч
могучий
и ясный жгучий свет,
что
рассекает тучи.
Родным, друзьям,
знакомим
таким, он предстает,
таким
его увидел
собравшийся народ.
И
завтра на рассвете
он двинется
вперед
при первых звуках
горна,
зовущего в
поход...
Но вот подходит кто-то,
когда встает он в строй,
и руку жмет
горячей
и сильною рукой:
- Я рад,
тебе, товарищ!
Встречались мы с тобой.
Меня ты помнишь?
-
Помню!..
- Ну, здравствуй,
дорогой!
Он отозвался сразу...
Но разве дело в том,
что с этим
человеком
он с юности знаком!
Свежи воспоминанья
о времени
другом, -
перед его глазами
опять
встает райком.
Секретаря встречает
он всюду и всегда:
то в шахте, то на
стройке,
то в цехе заводском;
в
передовом колхозе,
когда идет
страда,
и снова в кабинете
за
письменным столом.
Такого
человека
не мог забыть
Иван...
Полгода миновало
с тех пор...
Но что с того?
Порядком
изменился
бывалый партизан, -
но
мудрено, пожалуй,
забыть лицо
его.
- Все в городе вас знают,
товарищ секретарь...
Конечно, я вас
помню,
как помнит вас любой...
- То
было, друг Туркенич,
как говорится,
.встарь,
а нам ведь надо снова
знакомиться с
тобой!
Он смотрит
удивленно:
- Зачем
же?
Почему?
Ведь вас за это
время
не мог я
позабыть!.."
- Но жизнь у нас,
товарищ, одна,
и потому
ее достойно
надо
и радостно
прожить!
- Антон? - Вот это
встреча!
Неужто это вы?!
Ах, если бы
вы знали,
как я вас видеть рад!
Он
взял его за плечи
и крепко обнял, так,
как только обнимает
солдата друг-солдат.
Они стояли рядом,
обнявшись, как друзья;
один в
военной каске,
и в картузе - другой.
И мысли их летели
к
дням,
что вернуть нельзя,
и снова
возвращались
к Отчизне дорогой.
На
них смотрели люди,
и каждый
понимал,
что перед ним, как
символ,
стоят отец и сын
Что это
Власть Советов
и Будущее
здесь
слились в объятье крепком,
и
путь у них -
один!
Эпилог
Мне тяжело,
закрыв
здесь книгу эту,
не повести
тебя,
читатель мой,
в день
завтрашний,
к сияющему свету,
что
загорится над родной страной.
Ты,
пионер,
иль комсомолец, или
едва в
ряды вступивший коммунист, -
ты
понял:
потому мы победили,
что
каждый воин был душою чист.
Когда
ты пашешь,
или бревна рубишь,
иль
пишешь сочинение свое, -
всем
сердцем
ты свою Отчизну любишь
и
каждый день ты видишь мощь ее.
Ты, победитель,
держишь мирный молот
в своих
руках,
ты рад обилью дел,
и хорошо
тебе:
ведь ты так молод
и все
свершишь,
чего б ни
захотел!
И
радостно,
когда ты убедился,
посеяв хлеб
или построив дом,
что плод
работы этой
претворился
в богатство
всенародное кругом.
Ты
радуешься,
радуешься вволю
величью
щедрой родины твоей,
тому, что
смело
собственную долю
вручил ты
ей,
навечно только
ей.
Ты горд и счастлив.
Но в душе тревога
и боль за тех,
кто погружен во тьму.
Ведь на земле
таких народов много,
что лишь в
дороге
к счастью
своему...
И не забыть тебе
цены победы!
Ты -
уцелел.
Ты - жив. И потому
иди
вперед.
Служи своей стране ты
и
славному народу своему!
Врагам до нас уже не
дотянуться.
Пришла весна,
и тает лед
зимы.
В громовом! гуле
войн и
революций
с историей
шагаем в
ногу
мы.
И нет сейчас
задачи благородней
для твоего
великого труда:
на страже мира
ты
стоишь сегодня.
Ты хочешь мира,
мира навсегда!
Ты
хочешь,
чтобы дети всей планеты,
чьи
щеки,
чьи ручонки так нежны,
и все
цветы,
все птицы, что согреты
дыханьем теплым
ласковой весны, -
не услыхали яростного свиста
осколков, пуль и бомб
в кромешной
мгле.
Ты хочешь песен на лугу росистом,
ты хочешь мира,
мира на
земле!
Но если
вновь
придется нам сражаться,
герои
те,
чье имя - легион,
убийц
кровавых
вновь не побоятся
и встретят
их,
как
встретил
Краснодон.
Москва - Кишинев. 1944-1949
г.
Наверх
|
|
| 
