Борис Костюковский
"Жизнь как она есть"
ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, 1973
ОТ РЕДАКЦИИ
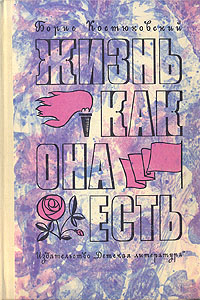
Эта повесть была опубликована в журнале "Звезда" №№ 6, 7 за 1971
год под названием "Нить Ариадны". Для юного читателя повесть
переработана.
ОТ
АВТОРА
Наша первая
встреча произошла тридцать лет тому назад в госпитале. Белокурую,
остриженную под мальчишку, очень хрупкую девушку звали Адой Казей. Она
рассказывала о себе очень мало и неохотно. Была в партизанском отряде...
Попала в беду... Друзья не оставили, спасли.
Меня
заинтересовала ее судьба. Я о ней написал.
А спустя
несколько месяцев я был откомандирован во фронтовую газету, и мы
расстались с Адой на многие годы.
Мы встретились
вновь через двадцать пять лет, и оказалось, что я почти ничего не знал о жизни
Ады.
Из всего, что Ариадна Ивановна Казей
рассказала мне теперь, из ее писем ко мне, из того, что я видел в Минске, в
Станькове - на родине Ады, в местах партизанских стоянок, из общения с
людьми, близко знающими Ариадну Ивановну, ее мать и отца, ее брата, и складывалась эта книга. Сюжет ее - сама жизнь.
Очень
хорошо об этом написала мне сама Ариадна
Ивановна.
Я никогда не думаю о своем минувшем как
о чем-то исключительном. Кое в чем мне и "повезло": я осталась жить. А
ведь многих, многих из моего поколения унесла война. Да и после войны...
Помните, как сказал поэт: "Я не от старости умру - от старых ран умру".
Старые раны за все эти годы унесли немало моих близких
друзей.
Очень прошу вас, не слагайте оды в мою
честь. Ведь жизнь каждого -неповторимая история, только она неизвестна
другим.
Все так. Я с этим согласен. Но мне непреодолимо захотелось рассказать именно об Ариадне
Ивановне.
Ничего не приукрашивая, она невольно
помогла мне войти в свою жизнь, где были и радость, и слезы, и трагедии, и
непоправимые ошибки, и поражения, и торжество добра. Нет, она не старалась
показать себя с лучшей стороны.
В большинстве своем
здесь сохранены и подлинные фамилии, и подлинные
события.
Думается, что никакая, даже самая пышная
фантазия не может соперничать с правдой жизни, с правдой характеров и
событий.
Впрочем, предоставляю право об этом
судить читателям.
Вот что рассказала Ариадна
Ивановна
Казей.
МАМА
Деревня наша Станьково с давних пор
знаменита тем, что неподалеку от нее богатый и знатный польский граф
Чапский основал свое имение, построил экзотический замок, разбил парк на
английский манер, загородил речку Усу плотиной и поставил на
искусственных островах готические беседки.
Станьковская усадьба была центром обширных
владении графа, раскинувшихся вокруг на многие километры, с десятками
деревень и тысячами холопов.
Все мои предки были
крепостными и как с материнской, так и с отцовской стороны носили фамилию
Казей. Различали их только по уличным кличкам и именам, которые знали,
пожалуй, лучше, чем настоящие фамилии.
Моя бабка
по матери - баба Мариля, полька по происхождению,- всю свою юность то
батрачила в графской усадьбе, то работала поденно у аптекаря и у корчмаря.
Тем не менее даже мало-мальского достатка в доме никогда не
бывало.
Дед Алесь всю жизнь тачал сапоги, не уступал
Мариле в трудолюбии; вопреки установившемуся мнению о сапожниках, был
трезвенником, но из нужды выбраться они так и не
могли.
Единственной из всей многодетной семьи,
маме все же удалось окончить церковноприходскую школу в Станькове, а
потом в Кайданове (нынешнем Дзержинске)-двухклассное городское
училище. После вечернего рабфака она поступила на заочное отделение
Московского педагогического института.
Как я помню
ее, она всегда училась и почти никогда не расставалась с
книгами.
Книги эти я пыталась читать, как только
одолела грамоту. Если их читают отец и мать, думала я, значит, они интересные и нужные. Я брала в руки тома сочинений Ленина, книги Маркса,
Энгельса, но что я там могла понять? На стене в нашей комнате всегда висела
фотография Ленина, а на этажерке стояла статуэтка трехлетнего Володи
Ульянова. Но сколько я ни смотрела на маленького, в локонах по плечи,
мальчика, никак не могла представить его взрослым: дедушкой Ильичей,
большим другом рабочих и крестьян, вождем. Так и представляла его
ведущим: он впереди, а за ним - рабочие и крестьяне всего
мира.
Карл Маркс в моем воображении походил на
доброго бородатого дедушку Юру - отца папки. В то время у меня
появлялись какие-то склонности к рисованию. И вот я решила нарисовать
портрет Маркса. С каким же старанием я работала! Сколько бумаги,
карандашей, красок, энергии и сердечного трепета я вложила в этот портрет! И
как ждала оценки родителей!
Папка сказал: "Молодец,
раз начинаешь с великих людей". И Маркс в моем воображении сразу вырос в
гиганта: по-белорусски "вялш"- большой. Мама тоже сказала что-то лестное,
но непонятное: "Oro-го! У тебя, дочурка, есть эстетический вкус и чутье
живописца". "Эстетический"- темная ночь, "вкус" - сладкое, горькое, что-то на кончике языка, "живописца"-"живо писать", а я-то так долго трудилась,
"писала медленно" (этого я, конечно, не сказала маме, чтобы не разочаровать
ее).
...Чуть начнешь вспоминать, и невольно мысли
уносят тебя далеко-далеко. С "колокольни" своего теперешнего возраста
смотришь на ту девчонку, и невольно охватывает первозданная радость бытия,
новизны, счастья узнавания...
Но возвращаюсь к маме
и ее жизни.
Интересна история ее любви и
замужества. Об этом, когда я подросла, поведала мне сама мама. Да и от
других я наслушалась немало, особенно от бабушки Зоей - дальней
родственницы отца, моей неродной, но самой любимой бабушки.
...В 1921 году, когда наша местность была
освобождена от белополяков, приехал домой на побывку из Кронштадта Иван
Казей.
Ане Казей исполнилось тогда шестнадцать
лет.
Был май, весна в разгаре, вовсю цветет черемуха;
в бывшем графском парке - целые поляны фиалок.
В
деревне, в воскресный день, в бывшем доме графского писаря танцы под
гармонь, скрипку, цимбалы.
Аня только-только
окончила учение в Кайданове, невеста, ей разрешено пойти на танцы. Невеста-то необычная для деревни того времени - с образованием, "ученая", да и
красавица, и рукодельница, умница - в общем, всех качеств и не
перечтешь.
И вот она появляется в самодельных -
шитых дедом - туфельках на каблуке и в полотняном домотканом платьице,
которое она расшила васильками. И вдруг... Моряк! Кто он? Чей? Откуда здесь
появился? Моряку двадцать семь лет, высоченный, плечистый, копна темно-русых волнистых волос, орлиный взгляд, продолговатое лицо с прямым носом
и полный рот белых зубов. А как лихо пляшет и говорит совсем не по-здешнему!
Сердце впервые замерло у девчонки: надо
же узнать о нем, об этом моряке. Школьная подружка сказала: "Так это же
Ваня Талёнов".
Ах вот что, Талёнов! Тоже Казей.
Мамин род Казеев "по-уличному" звали "Юлиновы", папин -"Талёновы",
по-видимому, по именам каких-то
прапрадедов.
Моряк заметил маленькую красавицу с
длинной темно-русой косой по пояс, пригласил на польку, потом на вальс. И
отошел! Он в кругу своих сверстников-земляков, от него ни на шаг не отстают
его сестры - Серафима и Любаша...
Через несколько
дней - снова танцы.
И маленькая хитрушка Ганна
Юлинова делает решительный шаг: мчится в парк, срывает несколько синих
колокольчиков, отыскивает одну веточку распустившегося крупного жасмина
- и готов небольшой букет.
Она мчится с ним в клуб,
проходит через весь зал прямо к моряку, чуть склоняет голову и преподносит
ему свой подарок...
Зал так и ахнул: на глазах у всех
сама подошла к незнакомому парню... Ах-ах-ах!.. Ну и Ганна Юлинова, ну и
отчаянная голова!
Моряк тронут вниманием смелой и
такой привлекательной девушки. Месяц пролетел быстро. Иван Казей
собирался уезжать на флот, а сердце ранено этой "пичугой-красавкой". Что уж
там говорить: с того памятного вечера забыл моряк о танцах и обо всем на
свете, оставил своих дружков-земляков, скрывался от сестер-наблюдательниц,
не видели его и многочисленные деревенские
невесты.
Ночи напролет просиживал он в укромных
местах парка, на берегу озера, с лукавой "Юлинянкой", как он стал ее
звать.
Потом моряк уехал, условившись с Ганной, что
при следующей встрече они станут мужем и женой. Они писали друг другу
письма.
Но Казеи - Талёновы, узнав, что Иван решил
жениться, стали всеми средствами препятствовать
этому.
Где-то в начале 1922 года тяжело заболел
старик Талонов, и сына его вызвали из Кронштадта
телеграммой.
Снова Иван побыл дома не то неделю,
не то две. Отец умер, но до этого успел поговорить с сельским попом Бирулей
и взял с него слово, несмотря ни на что, обвенчать сына с Анной Казей из рода
Юлиновых, когда об этом попросит сын.
И в этот
второй приезд моряка в родное Станьково влюбленные стали друг для друга
мужем и женой. Но об этом ни одна душа на свете не
знала.
Моряк снова уехал, уже с надеждой, что скоро
вернется, а "пичуга-красавка" осталась ждать его. Не так уж много времени
понадобилось для того, чтобы приметить в ней "греховодницу", да и сама она
поняла: будет ребенок.
Эту тайну скрыть становилось
все труднее и труднее. Дома Аню "ели поедом", как "пропащую". Моряк уже
все знал, писал нежные письма, страдал вместе со своей "пичугой".
В сентябре моряк вернулся в Станьково, уже
списанный с корабля в запас, встретился с попом, и тот решил обвенчать
молодых, хотя для этого и придется обойти законы православной религии.
Моряк пошел предупредить невесту о дне и времени венчания, но его с порога
выгнали будущие тесть и теща.
Невесте никто не
готовил приданого, никто не шил подвенечного наряда. За несколько дней
маленькая мастерица без машинки, на руках, сшила себе из домотканого,
отбеленного холста простое и скромное платьице и сама же стачала из этой
"парчи" белые туфли на каблучке.
У церкви вместе с
несколькими друзьями и подружками ее ждал жених... во флотской форме
(дома ему не дали костюма).
К открытию церкви
собралось, говорят, много народу, посмотреть, не выгонит ли батюшка
"греховодников". Были и сочувствующие: очень уж хороши
"молодые".
Мама была очень
деятельной, энергичной и современной женщиной: деловая и
принципиальная.
Очень чуткая и внимательная, с
прекрасной памятью, она говорила красиво, увлеченно, эмоционально, любила
читать нам вслух и наизусть.
Она, пожалуй, первая
пристрастила меня к чтению, к стихам. У нас в доме, кроме вечеров пения,
были и традиционные вечера стихов. Как мы старались друг перед другом
блеснуть памятью и хорошей декламацией!
Мама и
бабушка Зося научили меня слушать природу, видеть ее, чувствовать. И я
вовсе не идеализирую мою мать, о ней так скажут все, кто знал ее, кто
помнит.
Она умела отказать себе во многом, никогда в
жизни мы не слышали от нее жалоб, даже тогда, когда ели "затирку",
заправленную только ржаной мукой. Она кормила нас ею с шутками и
прибаутками, задорно смеялась, суетилась по дому, бегала на работу и в клуб,
училась и танцевала. По-детски дурачилась с отцом, играла с нами в
"жмурки", в "ладу", "кошку и мышку"-в общем, как я уже говорила, была
простой, веселой, быстрой, не только мамой, но настоящей нашей
подружкой.
...Помню ее, когда мы жили на
Борисовщине, с подойником в руках, в ситцевом домашнем платьице, в белой
косынке или идущей с полным передником свежих яиц из сарая, где
громогласно кудахтали куры.
...Она полет грядки,
собирает яблоки, бежит каждое утро через огород к берегу реки за
незабудками. А потом, переодевшись в темное платье с белым воротничком,
оставив нас одних, спешит в Станьково, где работает на
почте.
Под вечер мы ждем папку и ее с работы, пьем
сыродой... Все как будто так обыкновенно, но почему сердце замирает от
восторга при этих воспоминаниях?
...Каждое лето мы
ждали в отпуск с далекой Камчатки двоюродного брата мамы, дядю Викентия,
который почему-то всегда приезжал к нам, а не к своей родной
сестре.
Дядя Вика служил в Петропавловске-на-Камчатке корабельным врачом. Надо представить себе, сколько общих разговоров у них было с папкой!
Вообще дома у нас не
переводились гости - друзья отца и матери: учителя, агрономы, воспитатели
детдома, рабочие МТС, врачи и колхозники.
...Или вот
еще. Мы как-то играли во дворе, и вдруг в нашем саду появился человек,
обошел нас, быстро пробежал через двор, все ускоряя шаг, подался через
дорогу в рожь и скрылся в ней. У него на боку под рубахой что-то топорщилось: не наган ли? Мы почему-то испугались, побежали с Лелей в дом, все
рассказали маме. Вокруг нашего дома росли высокие ели. Мама выбежала и,
став за одну из них, начала наблюдать за рожью. Оттуда показалась голова
человека в кепке и где-то в середине поля снова спряталась. Мама повернулась
к нам и быстро проговорила:
- Бегите в дом, дверь
заприте, я схожу к папке на работу.
А сама почему-то
побежала по дорожке к саду, скрылась в прибрежных кустах и вместо
графского парка, где папка работал тогда в детдоме, направилась прямо в
Станьково.
Через некоторое время мы увидели, как к
полю бежали крестьяне. Шпиона поймали в этот же день, но уже не во ржи, а
за деревней, в перелеске.
Граница была под боком, и
такие "гости" в те годы появлялись в наших местах
нередко.
Особенно отчетливо видится мне мама уже в
Дзержинске в годы коллективизации. Она часто ездила по деревням в
командировки, дома почти не жила, приезжала раз в неделю-две: помыться и
переодеться. Нас было уже четверо, и как папка управлялся с нами, не
понимаю. Он нас купал, кормил, сам стирал белье. В чем-то ему помогала
Леля.
Мама, стройная, аккуратная, в кожаной куртке, в
шерстяной узкой юбке, в сапожках на каблуке, плотно обтягивавших ее
стройные маленькие ноги, в красной косынке на темных волосах, распахивала
дверь, вбегала к нам, усталая, с неизменной улыбкой, прижимала нас к себе и с
жадностью целовала в глаза, в щеки. Папка стоял в сторонке и смотрел на нас с
лаской. Мама подбегала к нему, вставала на цыпочки и повисала на крепкой
шее. Он заботливо снимал с нее куртку, сапоги, приносил домашний ситцевый
халат.
Они без умолку говорили, говорили, говорили,
а мы вокруг, как воробьята, столько радости: мама сегодня
дома!
Она присаживалась буквально на несколько
минут и тут же принималась за хозяйство. Вечером в доме становилось весело,
уютно, вкусные блины, ватрушки, приходил кто-нибудь из знакомых и друзей.
А через день-два мама снова уезжала.
Однажды она
вернулась с наклейкой на виске у правого глаза. Оказалось, что ночью, когда
она ехала одна на лошади, кулаки стреляли в нее, но, к счастью, пуля только
чуть задела висок. Это случилось где-то на самой границе у Колосова, где
было немало кулачья. Папка тут же сказал, что больше не отпустит ее одну и
попросит, чтобы его тоже посылали в командировки вместе с
мамой.
Мама стала возражать: разве можно сейчас
бросать МТС, где в это время отец работал механиком: вот-вот прибудут
тракторы.
- Не беспокойся,- заверила она,- я
теперь буду ночевать на погранзаставах и ездить с бойцами-пограничниками.
Потом долго мама была дома, только
два раза в год уезжала в Москву в институт, на сессию, и мы ее ждали и писали
ей письма. Она привозила нам всем
подарки.
Когда арестовали
отца, мы вернулись в Станьково, и мама начала зарабатывать
шитьем.
Станьково на глазах изменялось: тут решено
было построить военный городок; приехали техники, рабочие, специалисты -
всё молодежь. В первую очередь начали прокладывать узкоколейку до
Дзержинска и мостить дороги. Здесь с незапамятных времен была топь -
тонули и животные и люди, а машин никто вообще не
видел.
Приехал начальник стройки, с двумя шпалами
на петлицах, с короткой фамилией Ной, подвижный, живой и громкоголосый.
Расквартировались все в Станькове и близлежащих деревнях. Пока питались у
хозяев, но для ИТР решили открыть столовую у кого-нибудь на частной
квартире. Предложили это маме, и она стала и завом, и поваром, и кладовщиком - одна во всех лицах.
На двадцать человек
день и ночь в русской печи готовила она завтраки, обеды, ужины. Приходили
веселые, загорелые молодые люди и сам интендант Ной, садились в кухне за
наш большой стол в две очереди. Постепенно мы привыкли к ним как к членам
семьи.
Интендант Ной сам не курил, а свой паек -
папиросы и махорку - отдавал маме. Она очень страдала от своей привычки,
но бросить курить не могла.
Если кому-нибудь нужно
было отметить день рождения, просили маму отдельно приготовить закуски,
накрыть по-праздничному стол.
Мы учились в шуме,
сутолоке, тесноте. Мама очень уставала. Сколько ей приходилось носить из
колодца воды, ворочать ведерные чугуны и кастрюли... И все же, каким-то
чудом, мама все успевала делать. Правда, ей помогали старшая моя сестра
Лёля, и я, и даже мой младший братишка Марат. Ели мы из общего котла.
Наши "столовники" относились к маме с большим уважением: 18 августа 1934
года. когда маме исполнилось 30 лет, они за свой счет отпраздновали день ее
рождения, подарили туфли и отрез на платье.
Через
несколько месяцев в городке была построена столовая. Приехали
квалифицированные повара, и мама лишилась
работы.
Начался учебный год. Нужна обувь, одежда,
учебники. Мой младший братишка Марат пошел в первый класс. Мама
собрала облигации - а их было у нас немало,- поехала в Минск в сберкассу
и продала их. Она привезла нам обувь, портфели, материал для
одежды.
А потом мама пошла работать
сортировщицей в Станьковское почтовое отделение и, как прежде,
подрабатывала шитьем на машинке.
Кажется, жизнь
начала понемногу налаживаться. В маме снова заговорила "общественная
струнка".
Она создала при колхозном клубе
драматический коллектив, была там и режиссером, и актрисой. Я стала ее
верным помощником: доставала у бабушек старинные костюмы, играла
детские роли в пьесах. Коллектив этот пользовался большой популярностью не
только в нашем селе, но и в соседних колхозах, куда часто выезжал с
концертами.
Маму любили и уважали. Я это хорошо
чувствовала даже по себе: мои сверстницы завидовали, что у меня такая
"особенная, не как у всех" мать.
Я же гордилась и
восхищалась ею, хотя она была к нам строга и
требовательна.
Помнятся первые выборы в Верховный
Совет БССР.
Мама была агитатором на десятидворке
одной из улиц Станькова. Нужно было разъяснять первое в жизни республики
"Положение о выборах", а люди здесь жили тогда малограмотные, а то и вовсе
неграмотные. Я, как всегда и везде, иду с мамой на
десятидворку.
Это было летнее время: мужчины в
поле, дома женщины, старики и старухи. Помню, мама несет "Положение" и ...
патефон, я семеню рядом, прижав к груди
пластинки.
Чаще всего беседы проводились у кого-нибудь в саду. Сначала агитатор поговорит о житье-бытье, о домашних делах,
о работе в колхозе (колхоз был богатый, на трудодень получали немало), потом
положит на диск патефона пластинку одну, другую... Особенно мне памятна
песня:
Поле, мое поле, поле
золотое,
Ты былое горе по ветру
развей,
Над тобою, поле, небо
голубое,
Небо родины
моей.
Над тобою, поле, пролетают
птицы...
Мелодия, напевная,
очень схожая с народной, трогала души этих простых женщин и
стариков.
- Ганя,- говорили они,- вот же хорошо!
Ну-к, поиграй, поиграй, милая.
И с просветленными
лицами слушали "Золотые вы песочки", "Летят утки". А потом уже дотошно,
вместе с мамой, разбирались в "Положении", в каждой его статье. В конце
обычно - своеобразная политинформация по вопросу: "Что же делается на
свете".
Как интересно было, когда приехали в
Станьково кандидаты в депутаты Верховного Совета! Их было двое: Значенок
- лучший тракторист района и Абрамов - младший командир-пограничник,
который со своей служебной собакой задержал немало нарушителей границы.
С этой собакой он и приехал на митинг.
Люди вокруг,
празднично одетые, со всех деревень Станьковского сельсовета. А я не могу
оторвать глаз от собаки: чуть не перепутала все, когда мне предоставили слово
от имени учащихся школы. Это было первое в моей жизни (в двенадцать лет!)
публичное выступление, и несколько фраз приветствия я повторяла про себя
целую неделю. Цветы я почему-то решила вручить и собаке
тоже.
Все смеялись, когда я подошла к ней, а
пограничник сказал:
- Ничего, ничего, ты ее не
бойся, она знает, кого кусать.
А я и не боялась и
засунула под собачий ошейник несколько
цветков.
Шестнадцати лет наша Лёля вышла замуж за
демобилизованного из армии. Он устроился заведующим магазином, и тут же
вскоре ревизия обнаружила у него растрату.
Чтобы
спасти своего зятя от суда и тюрьмы, мама распродала все вещи и даже
одежду. Потом, оставив Марата у бабы Марили, вместе со мной, Лелей и ее
мужем уехала в Речицу, Гомельской области, к своему брату Александру,
который жил там с семьей и работал на железной
дороге.
Муж Лёли устроился в самом Гомеле, а мы с
мамой остались в Речице у дяди Саши.
Вскоре, как это
и бывает, мы стали лишними в этой семье, и мама сняла за дощатой
перегородкой угол в частном неказистом домишке. Имея уже опыт, она пошла
работать начальником почтового отделения на фанерно-спичечную
фабрику.
Как мы жили? Очень скромно, но дружно.
Почему-то позже переехали на другую, тоже частную квартиру,
поближе.
В 1941 году мама решила
вернуться в родное Станьково. приехать
сама
Сначала она отправила туда меня, а в
апреле собиралась приехать
сама.
БАБУШКА
ЗОСЯ
Как я благодарна
ей за все, что она для меня сделала!
Своих детей у
бабушки никогда не было. Нашу семью она почитала, как самую родную, а я
многие свои детские годы провела в ее маленькой избушке на краю
села.
Как она умела терпеливо наставить, тактично
объяснить, урезонить, всему научить. Совершенно неграмотная, но умная,
чуткая, практичная, она была прирожденным педагогом.
Она молилась богу, верила в него, но никогда
не заставляла меня молиться или соблюдать какие-нибудь религиозные
обряды, скорее наоборот. Я обладала обезьяньими качествами все быстро
перенимать и копировать. На ночь бабушка трижды читала "Отче наш" и
трижды "Богородицу". Она садилась на кровать, свесив босые ноги, а я, лежа у
нее за спиной, слушала молитвы и запоминала. Знала я и "благодарственную",
которую бабушка возносила богу после каждой
"трапезы".
Один раз, пообедав, я встала в точности
так же, как бабушка, у стола, лицом к красному углу, где висели иконы. И
стала повторять:
- Господи Иисусе Христе, сыне
божий, спаситель наш, благодарю тя, что насытил мя всеми благами
земными...
Говорила я это так, чтобы бабушка
услышала и похвалила меня. А она рассмеялась и
сказала:
- Не треба, деточка, тебе это. Я старая,
привыкла всю жизнь молиться. А ты лучше песни
пой.
С какой-то стороны религия меня увлекала:
молитвы на незнакомом и малопонятном языке, иконы - красочные картины в
золотых и серебряных окладах: милые детки с крылышками, красивые
женщины, старики в длинных одеждах с белыми бородами. У бабушки было
около сорока икон, и я часто делала экскурсию в эту своеобразную "галерею".
Становилась на длинную лавку и обходила вдоль стен, подолгу простаивая
около икон. Не религиозное чувство они у меня вызывали, а ощущение
красоты.
Каково же было мое удивление, когда через
много-много лет я поняла, что среди икон у бабушки Зоей были репродукции с
картин Леонардо да Винчи, Рафаэля, Александра
Иванова...
Очень хорошо и спокойно жилось у
бабушки Зоей. Вернувшись в Станьково, я была уже в том возрасте, когда могла помогать ей по хозяйству. И мне было радостно и приятно делать все вместе
с бабушкой и по дому и на дворе.
Сколько рассказов я
наслушалась от бабушки о ее прошлой жизни!
Она
помнила еще крепостное право. С семи лет пасла помещичьих уток и гусей,
потом носила воду на господскую кухню и мыла
посуду.
В шестнадцать лет красивой и молодой
девушкой была взята в горничные к графине Чапской, а позже нянчила двух ее
девочек. В тридцать лет из замка ее перевели в прачки. Однажды в гололед
поскользнулась и сломала ногу. Граф дал ей 6 рублей и каравай хлеба и этим
расплатился за труд, молодость и здоровье. Семь лет она ходила на костылях.
С тех пор нога у нее не сгибалась в коленке, и бабушка подтягивала ее на ходу,
хромая. Жениться на Зосе никто не хотел, хотя она была и умна и красива:
хромая - что за работник! Жила все эти годы, пока не бросила костыли, у
дальнего родственника, человека мягкого, но женатого на женщине сварливой
и злой. Так что семь лет этих были не из сладких, хотя Зося не была
дармоедкой и умудрялась, не расставаясь с костылями, с утра до вечера
работать по дому и хозяйству. Оставив костыли, она снова пошла просить
работы у графа. Чапский милостиво взял ее на скотный двор. Там она
заработала себе на всю жизнь ревматизм и вывихнула руку в запястье. Так что,
кроме хромоты, она еще стала и "криворучкой". Теперь ее перестали держать
даже на скотном дворе.
В это время в Станьково
неизвестно откуда приехала молодая учительница Елена Иосифовна
Цитковская.
У нее были деньги, и на них она
построила огромный дом. Одна из комнат дома стала классной комнатой, в ней
разместилась школа.
Елена Иосифовна выучила
несколько поколений станьковцев. У нее учились и папа, и мама, и Лёля, и я.
Но это еще можно было понять, а вот то, что ее учеником был дед Алесь-мамин отец,- в это уже как-то верилось с трудом. Но это было так.
Учительница проработала в школе около шестидесяти лет, сохраняя ясную
память, любовь к школе и большую энергию.
Елена
Иосифовна взяла к себе Зосю, и та стала выполнять обязанности кухарки,
прачки и уборщицы. У Елены Иосифовны Зося прожила больше тридцати лет,
но и потом на всю жизнь они остались приятельницами и трогательно
заботились друг о друге.
Якуб появился у бабушки
Зоей, когда ей исполнилось шестьдесят. Был он барским копчарем (готовил к
графскому столу копчености). Не посмотрел дед Якуб, что "невеста" была и
хромоножка и криворучка. Были у него и у нее кое-какие сбережения. Купили
у графа участок земли, построили маленький домик, а через дорогу насадили
сад на пустыре. Все их хозяйство состояло из коровы, двух свиней, десятка
кур, собаки и кота. Но вырастили они самый знаменитый, самый урожайный
сад в окрестности: 60 яблонь и груш всевозможных сортов, ягодные
кустарники по сторонам, за ними слива и вишня. Они делились урожаем с
родственниками (в первую очередь с нашей семьей), знакомыми,
односельчанами и, конечно, с Еленой Иосифовной. Делали из фруктов и
овощей "разносолы", настойки, варенье для себя и для всех, кто у них
бывал.
Дед Якуб славился не только умением
ухаживать за садом, но по старой памяти выкармливал двух кабанов, каждый
по двадцать пять - тридцать пудов и делал из них такие копчености, что ни
одна свадьба, ни одни поминки на селе не обходились без его
изделий...
Бабушка была очень добра: любого, кто
заходил во двор, она не выпускала, не попотчевав.
Дед
был скупее, но молчал. Да и "провести" его бабушка
умела.
Отдаст кому-нибудь петуха или курицу (той же
учительнице или нам), а потом говорит деду:
- Отец,
а где это желтая курица девалась? Неужто ястреб задрал? Вот пропади он
пропадом.
- Может, и задрал, раз не пришла до
хаты,- соглашался бесхитростный дед.
Жили они в
согласии и мире. Никогда дед Якуб не повышал голоса. Но один-единственный
раз побил бабушку. И все из-за меня.
Была ранняя
весна, талые воды уже бежали под снегом, он чернел, оседал, но ручьи еще не
выбивались на поверхность. Интересно ступать на рыхлый снег, проваливаться
в хлюпкую кашицу под ним, а потом смотреть в ямку-след, где полно воды.
Никому ничего не сказав (а мне в ту пору было лет шесть или семь), по такому
снегу-целине я пошла на кладбище. Дедушка и бабушка хватились меня: к
одним соседям, к другим - нигде нет. В доме - целый переполох. А
"пропажа" заявилась мокрая до подмышек - еле вылезла из снега и воды.
Бабушка схватила меня да скорей на печь. Разувает, раздевает и приговаривает
ласково, как всегда, подбирая самые нежные слова:
-
Моя миленькая, моя хорошая, зачем же ты пошла одна? Так же нельзя,
внученька, ходить одной по водичке - ты же еще маленькая. Неужто ты
хочешь, чтобы твоя бабушка умерла, ненаглядная ты моя
девчоночка?
Не знаю уж почему, но мне становилось
так жаль бабушку, что я готова была реветь, лучше бы она не называла меня
своими ласкательными словами, а ругала.
Дед вышел
во двор, через минуту вернулся с прутьями в руке, подошел и стал сечь ими
бабушку по чему попало: по рукам, ногам, по
спине.
- А где ты была? Почему не смотрела? Что
тебе Ганя скажет? Что ты ей скажешь? Досмотрела!
Донянчила!
Бабушка стоит покорная, ни слова, а я в
крик и слезы.
- Отец, ну хватит же, виновата я! Не
пугай ее, а то хуже заболеет...
А я и не думала болеть.
Вечером бабушка поила меня малинником, липовым цветом с медом, парила
ноги и натягивала на них чулки с горчицей - как тут
заболеешь!
Когда любишь человека, приходят на
память воспоминания не только значительные, но и мелкие. И в каждом слове
и жесте все тебе мило, все для тебя дорого и
незабываемо.
И есть такое, что не забывается никогда,
что стоит у тебя перед глазами и в тяжелое и в счастливое
время.
Мне кажется, что бабушку Зосю я знала с
первых своих шагов, от рождения. Все в ней для меня было прекрасно и
неповторимо: ее глубокий голос, строгое спокойное лицо, изборожденное
глубокими морщинами, ее молодые глаза, даже ее хромота, даже ее
негнущаяся рука. Ни один мальчишка, ни одна девчонка не смели при мне
назвать бабушку Зосю "хромоножкой" или "криворучкой". Я могла бы за это
избить любого, расцарапать ему в кровь лицо. Да мне кажется, что и людей
таких не было, кто мог бы отнестись к бабушке плохо или даже плохо о ней
подумать.
Дед Якуб умер, когда бабушке Зосе было
восемьдесят лет. Вся наша семья чем только могла старалась помогать ей по
хозяйству.
Это случилось как раз в день ее
рождения.
Я сидела у стола и делала уроки. Кончался
теплый, ясный сентябрьский день; розовые блики от раннего заката лежали на
стене и на краешке стола, на миске с румяными свежеиспеченными
пирожками.
Уже пришли с пастбища коровы, и,
надоив молока, бабушка процедила его, разлила в кринки и села чистить на
ужин картошку. Предстоял "пир".
- Совсем я
запамятовала, Адочка. Сбегай в курятник, сними с гнезд яички, а то куры
сейчас пойдут на насест.
Я схватила решето и
выбежала из хаты, а когда вернулась, бабушка лежала на полу, а рядом, в
разлитой лужице воды, валялся чугунок и перевернутый набок маленький
стульчик, на который бабушка обычно ставила ноги. Она силилась встать, но
безуспешно, только сгибала в локте правую руку. Предчувствие беды
мгновенно обожгло меня.
- Бабушка, родненькая, что
с тобой?
В ответ - мычание. Я приподняла ее с пола,
посадила, потом крепко обхватила в поясе руками и дотащила до кровати.
Три недели бабушка была в одинаковом
состоянии: неподвижно лежала; когда не спала, пыталась мне что-то сказать и
объяснить. Это было самое ужасное. В школу я, конечно, не
ходила.
Заходили посидеть бабки-подружки, заходила
и баба Мариля, но подолгу не оставалась, зная, что Зося ее всю жизнь не
любила. Она все выспрашивала меня о деньгах, бубнила над самым ухом,
словно ее кто-то мог здесь услышать, кроме меня. Я злилась и ждала, чтобы
она поскорее ушла.
Так было и в этот вечер. Я
проводила бабу Марилю, сидела и пришивала пуговицу к бабушкиной
рубашке и вдруг услышала:
- А-а-да...
Мое имя за время болезни бабушка Зося
произнесла первый раз. Я соскочила с места, бабушка повернула ко мне
голову: глаза чистые, хорошие. Потом они затуманились, и слезы скатились на
подушку - одна, две; она глубоко вздохнула, вздрогнула, и голова ее снова
легла ровно.
Я поняла: бабушка
умерла.
Я сидела около бабушки Зоей еще двое суток
и очень не хотела, чтобы ее уносили на кладбище. Многое, многое я передумала за эти две ночи и два дня и, кажется, сразу по-взрослела.
Через неделю-две от бабушкиного (теперь
уже моего) хозяйства ничего не осталось: кабана зарезали и все мясо и сало
увезли к бабе Мариле ("Приходи к нам "есци"), коровку продали. Остался еще
погреб с картошкой, пустое гумно и пустая хата. Деньги в мешочке баба
Мариля тоже взяла, зерно и муку в бочках увезли. Мне дали немного денег, на
которые я купила себе пальто.
Часто теперь я
голодала, но "есци" к бабе Мариле не ходила. Решила лучше брать у соседки
белье (она стирала для воинской части), этим зарабатывала себе на
хлеб.
Так я дождалась возвращения мамы из
Речицы.
ОТЕЦ
Отец работал тогда машинистом
электродвижка детского дома в парке, бывшем имении графа
Чапского.
Жили мы в деревне Борисовщине за парком
- это рукой подать до Станькова.
Помнится, отец на
работе. Я часто бегала к нему, еще малышка, в парк: очень уж мне нравился
локомобиль - блестящий, чистый, попыхивающий, как маленький паровозик.
Мне казалось, что он вот-вот сорвется с места и помчится по нашей пыльной
проселочной дороге. Но увы, "паровозик" стоял; пожалуй, ему не хватало
рельсов. Нравилось мне здесь все: и запах мазута, и шум работающих
поршней, и посвистывание приводных ремней, и до блеска начищенные,
сверкающие, как золото, медные части этой чудо-машины. Тепло, исходящее
от нее волнами, ласково и приятно обдавало голые мои руки, лицо, босые
ноги.
А рядом - папка. Лицо его и руки всегда были
выпачканы мазутом, как будто чистюля-машина, играя, нарочно проделывала
это с ним. А он только поблескивал своими серыми, с вечными лукавинками,
глазами.
Одетый во флотскую робу, из-под которой
выглядывала тельняшка, всегда с паклей в руке, он снимал обтянутую
парусиной шапку, резким взмахом головы откидывал свою пышную темно-русую шевелюру назад, заговорщицки подмигивал мне, кивком указывая на
машину: вот, мол, какое диво дивное! Видишь?
Папка
очень любил технику. Любовь эту он принес с Балтийского флота, где с
первого года империалистической войны начал службу простым кочегаром на
линкоре "Севастополь", а потом уже, в годы революции и гражданской войны,
машинистом на линкорах "Парижская коммуна" (так стал называться
"Севастополь") и "Марат".
Линкор "Марат"! Я так
живо представляю его себе с самого моего детства: гордый, красивый и
сильный корабль. Моего младшего братишку родители назвали Маратом, по я
почему-то долго, очень долго не связывала это имя с названием корабля.
Линкор жил в моем сознании сам по себе, а мой братик -
отдельно.
Я знала и примечала в своем отце все.
Ходил он, по своей морской привычке, усвоенной за девять лет службы на
флоте, чуть покачиваясь, широко и прочно ставя ноги, спокойный,
уравновешенный, и я не подберу другого слова -
надежный.
Я не помню случая, чтобы он был зол,
угрюм, груб, чтобы повысил на кого-нибудь голос. Правда, однажды я и Лёля
вывели даже его из терпения...
По рассказам бабушки
Зоей, отец до призыва на флот очень много, умело и с любовью работал на
земле: пахал, сеял, косил, убирал урожай. Но после флота он навсегда "заболел" техникой. "Паровозик" в детском доме, к моему великому огорчению,
ему надоел. И в 1929 году, вместе со своим старшим братом Ефимом, отец
уехал в Дзержинск, где началось строительство
МТС.
Они с дядей Ефимом и строили эту МТС, а
жили первое время в зелененьких вагончиках. Я с мамой приезжала тогда
навещать папку, и мне было смешно и удивительно, что в "городе" такие
маленькие, дощатые "домики".
Отец и дядя, по моему
представлению, были там главными: не только строили, но и принимали и
устанавливали первые станки, а потом испытывали первые
тракторы.
Отец, оказывается, мог все. Он даже учил
молодых парней и девчат на курсах трактористов. Они-то, его ученики, и
вывели на поля первые тракторы. Он постоянно находился в окружении ребят
и девчат в красных косыночках, с вымазанными руками, смеющихся,
задорных, любопытных. Они очень любили отца, и он платил им тем
же.
Двух ребят, которых он знал еще по детдому,
Костю Шуйского и Андрея Пичугина, папка взял к себе в дом, и они долго у
нас жили, стали членами нашей семьи. На фотографии, которая сохранилась у
меня до сих пор, стоят рядом Костя, Андрей и наш маленький лобастый
Марат...
Помню очень отчетливо отца на работе у
станков с молодыми рабочими: в защитных очках, комбинезоне, на голову
выше всех, он сосредоточенно объясняет что-то или сам показывает на станке,
как изготовить деталь.
В годы первой пятилетки он
так много работал, что сутками не появлялся дома, хотя жили мы тогда совсем
близко от МТС. Нам с Маратом, которому было в ту пору не больше трех лет,
приходилось носить ему обед или ужин прямо в
цех.
Выходных дней у отца не было. Может быть, раз
в месяц он позволял себе такую роскошь - побыть с мамой и с нами. И вот
однажды мама увела к знакомым Марата и маленького Кима в гости, чтобы
отец мог днем отдохнуть, а нас с Лелей, как старших (видно, надеялась на
наше разумное поведение), оставила дома. Но мы стали вести себя так "разумно", что после долгих увещеваний, просьб успокоиться, перестать бегать и
шуметь отец не выдержал, и вот тогда произошло то, что запомнилось
навсегда. Он взял свой знаменитый флотский ремень с бляхой, больно отстегал
нас обеих.
И странное дело: мы не обиделись, не
плакали, хотя хорошо почувствовали силу бляхи. Мы продолжали смеяться,
только ушли на кухню. А после мы еще искренне хвастались всем - и
взрослым и ребятишкам,- что папка нам всыпал, дал настоящей "флотской
каши". Марат и Ким даже стали ныть и тоже просить у отца "флотской каши".
Как он весело хохотал, как подхватил обоих на руки, стал подбрасывать и
кружиться с ними по комнате! Марат и Ким быстро забыли про "кашу", а
может, посчитали, что это она и есть.
Иногда отец
навещал бабушку Зосю в Станькове. Бабушка его встречала с радостью и
почему-то всегда немножко плакала.
Я обычно
увязывалась за папкой, но мне приходилось не просто идти, а бежать за ним.
Откуда он так хорошо знал, когда я устану? Но он это чувствовал, потому что
вдруг рывком подхватывал на руки и усаживал себе на плечи. Хорошо!
Качаешься где-то в воздухе высоко-высоко! Притронешься руками к папкиным
выбритым, синеватым и все же чуточку шершавым щекам или запустишь руки
в его густые волосы. И пахли они особенно: какой-то горьковато-полынной
травой, что ли, и цехом. То, что они пахли цехом, мне было необыкновенно
приятно: папка и его цех в МТС были как одно
целое.
Напротив дома бабушки Зоей, во фруктовом
саду, росла хорошая трава, и папка обычно косил ее на корм корове. Очевидно,
это было для него большим удовольствием и отдыхом, а не работой. Он шел,
широко расставляя ноги, чуть наклонив голову, и коса в его руках была такой
легкой и послушной, что я не могла оторвать от нее глаз. Она даже как будто
не косила, а летала, и трава ложилась от ее прикосновений. У папки при этом
было необыкновенное лицо, как будто он слушал волшебную музыку. А
музыка и в самом деле рождалась в воздухе: то ли это жужжали пчелы и
стрекотали кузнечики, то ли подпевала им коса, то ли голосили пичужки, а
может быть, и папка что-то напевал, но для меня на всю жизнь от всей этой
картины осталось звучание прекрасной симфонии. И если мне вдруг приснится
даже теперь такой сон -это как праздник.
К полудню
отец выкашивал весь сад, и я бегала по колючей и короткой, как щетина,
стерне босыми ногами. К вечеру рядки с травой высыхали, папка и я несколько
раз ворошили их на солнце. Потом он огромными, просто невероятно
огромными охапками переносил сено на гумно. Бабушка Зося успевала
подоить корову, поила нас парным молоком с хлебом, а вернее, мы просто
крошили его в чашки с молоком и уплетали за обе щеки. И эта вечерняя еда
тоже была как продолжение праздника. Ничего, ничего прекраснее не было на
свете, чем эти дни. Уже поздно вечером мы с бабушкой Зосей провожали отца
за калитку: он уходил в Дзержинск, а я оставалась здесь
ночевать.
Отец был членом партии и первым из
ударников МТС. Не однажды его премировали за хорошую работу деньгами и
ценными подарками. Особенно я запомнила, когда в премию он получил
путевку на кисловодский курорт.
Впервые мы
расставались с папкой надолго. Месяц этот показался мне таким бесконечным,
как будто на целый год остановилась жизнь.
Вернулся
он с Кавказа ночью. Как уж я услышала шепот и осторожные шаги, не знаю.
Но меня будто могучая сила сорвала с постели и бросила на шею к папке. Я
закричала победно, радостно и разбудила всех. Какой переполох поднялся в
нашей маленькой квартире! Мы, все четверо, облепили нашего огромного
папку, и маме не осталось места. Она стояла в сторонке, смотрела на нас,
смущенная.
- Ваня,- сказала она жалобно,- а меня
ты так и не поцелуешь?
Папка как-то умудрился
прихватить ее своими длинными руками и, не выпуская нас, прижать к
себе.
- Вот,- сказал он дрогнувшим голосом,- вот
какое у меня богатство.
Он очень любил нас. Но маму
он любил больше. Уже много позднее я услышала определение любви как
"безумной". Так вот, он любил ее безумно. Я еще расскажу об этой любви,
больше такой я не встретила в жизни.
Я и Лёля тогда
ходили уже в школу, и папка привез лам с Кавказа красивые ручки и пеналы из
крепкого, как кость, дерева. На них были выжжены наши имена. Мама
получила в подарок белый пуховый платок с кистями, а Марат и Ким -
красивые коричневые башмачки. Ни Ким, ни Марат не могли на них
наглядеться, а малышка Ким не расставался с ними ни днем ни
ночью.
С тех пор мне почему-то очень хорошо
помнятся поездки и возвращения папки -то ли потому, что нам, детям, обязательно привозились подарки, то ли потому, что мы всегда тосковали без
него.
Помню, как отца посылали в Ленинград на
какие-то курсы. Он очень радовался этой поездке. Еще бы: повидает некоторых своих друзей-краснофлотцев, побывает в Кронштадте и Петергофе.
Привез он оттуда много открыток, с тех пор я знаю знаменитые петергофские
фонтаны; особенно поразил мое воображение "Самсон", словно сотканный из
сплошных мускулов, весь окутанный причудливыми струями фонтанов.
Приехал отец вечером - и снова в доме у нас праздник. Папка снял вещевой
мешок (еще флотский был этот мешок: парусиновый, вместительный, со
шнуровкой и заплечными лямками) и стал медленно, как нам, нетерпеливым,
казалось, выкладывать гостинцы: сыр голландский, всевозможные конфеты в
диковинных обертках, в разных коробках с картинками (а я страшная
сладкоежка была, и ну их все пробовать!), маме отрез на платье, а мне и Лёле
на этот раз ботинки. Эх, и ботиночки же были! Желтые-желтые, блестящие, с
белым рантиком, кажется, таких больше я и не видела. Надевала их на ноги,
прыгала, скользила по крашеному полу, как на коньках, в который раз
принималась целовать папку в колючие щеки, такие теплые и родные. И еще
он привез тогда книги с яркими рисунками - красивыми домами и
пароходами.
Я часто думаю о том, что мы, взрослые,
не умеем по-настоящему радоваться "мелочам жизни". Как надо нам учиться у
детей этому бесценному дару!
Очень живы в памяти
впечатления от одного вечера. Тогда было принято собираться на "семейные
вечера" по предприятиям. Вечера эти - с обильным угощением -
устраивались в складчину. Готовили закуски жены работников МТС. У нас в
доме мама выпекала булки и сдобу. Тот вечер был в столовой МТС. Мы
явились всей семьей, да и другие поступили так
же.
Дети сидели за общим столом и угощались водой с
сиропом, мамиными сдобными калачиками, ватрушками с вареньем,
творожниками, обсыпанными сахарной пудрой. Разница между нами и
взрослыми заключалась в том, что мы не ели острых закусок, не говоря уже о
вине, и нас раньше отправляли домой.
Перед
угощением отмечали лучших тружеников, вручали подарки и премии. Мы,
дети, были не только свидетелями, но как бы и участниками этого
немаловажного события. Особенно те из нас, чьи родители удостаивались
такой чести.
Папку нашего премировали тогда
коричневым кожаным костюмом: тужуркой, брюками галифе, а кроме того,
фуражкой -"ворошиловкой".
А потом почему-то
вместе с этим костюмом нашего большого смущенного папку вдруг
подхватили на руки рабочие и начали подбрасывать чуть ли не до потолка. Я
бегала вокруг этой кучи людей, и сердце мое буквально из груди выскакивало
от страха, что отца уронят и он разобьется.
- Ну
хватит,- сказал, к моей радости, какой-то пожилой рабочий,- довольно.
Носи на здоровье, Иван Георгиевич, эту обновку. И будь на веки вечные таким
добрым мужиком, какой ты есть. За то мы и уважаем
тебя.
Как было мне не гордиться своим папкой, слыша
такие слова!
А потом, после угощения, папка вел нас с
Маратом домой (Кима, как несмышленыша, оставили дома с Лелей, которая
приболела). Отец надел новенькую фуражку-премию, из-под нее задорно
выбивался чуб. Мы с Маратом пытались овладеть его свободной рукой (в
другой был подаренный костюм) и чуть не подрались. Тогда отец рассмеялся,
посадил Марата на плечи и велел ему держаться за шею, а меня взял на руки,
прижав к себе вместе с костюмом, от которого вкусно пахло новой кожей.
Такого ни у кого не было, только у моего папки, самого лучшего ударника,
настоящего "Самсона". Я даже сама опешила от такого неожиданного
сравнения. Да, мой отец был похож на Самсона, увиденного мною впервые на
открытке. Теперь я знала это точно. Такой же могучий, такой же красивый,
только в морском бушлате и тельняшке. Но теперь, в кожаном костюме, он
станет настоящим Самсоном. Почему я была уверена, что именно в этом
костюме мой отец превратится в Самсона, и сама не
знаю.
Отец шел своим обычным большим шагом, чуть
вразвалку, я прижалась к его щеке, и на свете не было более счастливой и
гордой девчонки. На улице стоял ноябрь, отмечалась годовщина Октябрьской
революции, повсюду виднелись кумачовые флажки и лозунги. Снег не выпал
еще, было сыро и грязно. Отец почему-то не обходил лужи, а шагал напрямик,
и мне это тоже нравилось.
Видела однажды отца за
столом товарищеского суда в МТС. Кого-то судили за срыв
работы.
Не помню подробностей, но знаю, что отец
там был главный- председателем суда. Я пробралась в клуб тайком, прячась
от папки. Он сидел, мой грозный Самсон, в своем кожаном костюме, положив
тяжелые руки на стол, и виновные опускали головы от одного его взгляда. Так
он и жил в моем представлении: Самсон, добрый к хорошим людям, и Самсон,
карающий плохих.
...Вечерами отец часто уходил то
на собрания в МТС, то на партсобрания. Часто вместе с мамой они бывали в
кино в районном Доме культуры. Когда они шли вдвоем, их за версту
узнавали: высоченный папка и мама, которая не доставала ему до плеча. Он
бережно вел ее обычно под руку чуть впереди себя, и знакомые, посмеиваясь,
говорили: "Плывут Казеи, да-алеко видно".
Жили мы
в небольшом доме: сразу из коридорчика - вход в кухню, из нее - дверь
направо в большую комнату, деленную на две дощатой
перегородкой.
На большой кухне посредине стоял
обеденный стол, вокруг него - простые деревянные стулья. Слева, в углу у окна,- здоровенный черный буфет, под окном вдоль стены - деревянная
скамья, что-то вроде кушетки, а в правом углу - русская
печь.
После ужина убиралась и мылась посуда, причем
участие в этом принимали все: папка мыл посуду, я и Леля вытирали стол,
Марат ставил на буфет, а мама в это время готовила постели
малышам.
Потом мы рассаживались вокруг чистого
стола, покрытого клеенкой, и начиналось самое интересное: у Лёли и у меня
(когда мы начали ходить в школу) спрашивали, как мы выполнили домашние
задания, проверяли тетради. И только после этого читали вслух книги: с тех
пор помню "Дон-Кихота". Читала обычно мама. Отец учил нас чистописанию:
у него был красивый, как мама говорила, "писарский" почерк.
В иные вечера папка рассказывал нам о своей
любимой Балтике, о Ленинграде, о революции, о штурме Зимнего дворца, о
своих друзьях-краснофлотцах. Я смутно помню эти рассказы, только вот
вертится в памяти эпизод, как отряд моряков, где был и наш папка, занимал
под Петроградом какой-то монастырь, как монахи ожесточенно отстреливались.
И тогда моряки подставили лестницы и перелезли через высокий
кирпичный забор и только так смогли укротить "святых
братьев".
Отец вспоминал плаванья, рассказывал о
буднях на судах, о своей работе кочегаром и машинистом. Любил рисовать для
Марата разные корабли: линкор, крейсер, эсминец, и объяснял их признаки.
Марата это очень интересовало, у него горели при этом глазенки и пылали
щеки.
Если уж вспоминать эти милые, неповторимые
вечера, то надо сказать о песнях. Пели у нас все, даже Ким, который еще не
очень-то понимал значения слов.
Вернуть бы хоть
один такой вечер, хоть один-единственный! Нa улице мороз, вьюга воет и
злится, а в большой комнате потрескивают в голландской печке смолистые
дрова, дверца открыта - оттуда идет свет и запах смолы; в комнате лампа не
зажжена, и розовые блики от огня пляшут по полу, на стенах, на этажерке с
книгами и на наших лицах.
Папка сидит на стуле в
центре, а мы все, и мама в том числе, просто на полу вокруг. У него в руках
мандолина или баян. Он играл на многих инструментах, даже на духовых, но
больше всех любил мандолину и кларнет. Кларнет он обычно приносил из
красного уголка МТС. Но яснее я вижу его с мандолиной в руках. Он проводит
по струнам косточкой, подтягивает колки, настраивает, потом резко откинет
голову назад, волосы распушатся, глаза прикрыты, одной ногой слегка
притопывает в такт и тихо-тихо
запоет:
Что ж на ветке
так уныло,
Птичка малая,
сидишь?
Вот уж утро
наступило.
Все поют, а ты
молчишь...
Мы знаем: это
своеобразное вступление. Он открывает глаза, осматривает нас и спрашивает:
- Ну, что будем петь?
Мы наперебой предлагаем:
"Варяга", "Моряка", "Славное море, священный Байкал", "Ты, конек
вороной", "По пыльной дороге..." Эту последнюю песню особенно любила
мама и когда-то объясняла нам, что и Ленин ее любил. Все эти песни
исполнялись нами как "обязательная программа", только менялась их
очередность, а потом уж шли другие.
Иногда папка
один пел старинные романсы. Как он их пел! По "мастерству" Лёля была
вторая, Марат - третьим, а мы с мамой безбожно фальшивили, да так, что
папка иногда мучительно морщился и бросал в нашу сторону укоризненные
взгляды. Но что поделаешь: мы самозабвенно любили музыку и пение -
хлебом не корми, дай только попеть,- но постоянно забывали о своем пороке
и, "вылезая вперед", пели громче всех.
Наш вечер
обычно заканчивался моцартовской "Колыбельной": "Спи, моя радость, усни,
в доме погасли огни..." Это означало, что нам, детям, пора спать. Марат и Ким
послушно уходили, а я еще сопротивлялась какое-то время. Но вот и меня
одолевал сон.
А папка и мама иногда еще долго
сидели, готовились к политзанятиям.
Позже, году в
тридцать третьем, в Дзержинске появилось радио, и к нам в дом оно тоже
пришло, а вместе с ним много интересного и нового. Помню, в январе, в
годовщину смерти Владимира Ильича Ленина, мы услышали выступление Надежды Константиновны Крупской.
Так раздвигались
стены нашего небольшого, уютного и дружного
дома.
Особенно трудным и голодным был тридцать
второй год.
Отец ходил в рабочую столовую, где по
талонам или карточкам выдавали обеды. Мы на всю семью в шесть человек -
двое взрослых и четверо детей - получали пять обедов. Это была кастрюля
"затирки" - похлебки из ржаной муки и воды, заправленной каким-то жиром.
Иногда она была с молоком, а не с водой. Бывало, папка принесет эту
кастрюлю, оставит нам, а сам не притронется, уйдет па работу. Скажет только
маме:
- Аня, корми
детей.
Мама разделит между нами "затирку" и папке
отольет в кувшинчик.
Поев, мы с маленьким Маратом,
через дыру в заборе (как раз напротив нашего дома), относили этот кувшинчик
отцу в цех.
Отец садился на ящик, доставал ложки и
командовал нам с Маратом:
- А ну, кто
быстрее?
Мы, конечно, забывали наказы мамы и
старались "не отстать".
Папка при этом улыбался,
подмигивал, шлепал себя и нас но щекам, приговаривая: "Ах, вкусно, ну и
вкусно!" И действительно, эта незатейливая еда казалась очень вкусной и
такой осталась для меня на всю жизнь.
Иногда давали
колбасу из лошадиного мяса. И мы даже песенку, помню, пели о ней, об этой
колбасе. Ее почему-то называли "фаширка" - что это значит, я и сейчас не
знаю.
У нас был небольшой хороший двор,
палисадник с цветами, огородик. К осени мы собирали уже свои огурцы, капусту, картофель, фасоль, морковь, свеклу. Работали на огороде обычно наши
родители, но больше папка. Очень уж он всегда берег маму. Да ей с одними
нами хватало дела.
Папка и воду всегда таскал из
колодца, и дрова носил (всегда одной вязанкой, так что еле протискивался в
дверь), и печи топил. Как палубу корабля, по-флотски, мыл пол на кухне:
раздвинет мебель, кое-что вынесет в коридор, выльет ведро воды на пол и
давай тереть его шваброй. Марат и Ким - его команда - помогают ему,
пыхтят, стараются, а он их похваливает. В конце 1933 года тяжело заболел
корью Ким. Болезнь дала осложнение на легкие, и он умер. Даже сейчас, когда
я произношу это слово, оно звучит страшно. Какая это была трагедия для всех
нас! Вот тогда я увидела, как может плакать мужчина: папка стоял на кухне,
отвернувшись лицом к окну, и от рыданий его широкие плечи ходили ходуном.
Он старался себя сдерживать, и поэтому все выглядело еще ужаснее: казалось,
что грудь его вот-вот разорвется.
Он почувствовал мое
присутствие, схватил меня на руки, и уткнув голову мне в плечо, прерывисто
проговорил:
- Маму... маму
уведи...
Он опасался, чтобы мама не расстроилась еще
сильнее: она была беременна и вот-вот ждала еще одного ребенка.
Хоронить Кима решено было в Станькове, а не
в Дзержинске, и вечером папка с бабушкой Зосей увезли гробик в нашу
родную деревню.
Это была первая в моей жизни
утрата. Такая чудовищная, что я долго не могла поверить в нее, а тем более
привыкнуть к ней.
Но жизнь с ее законами не стояла
на месте. Через какое-то время папка уже бегал к маме в больницу и все ждал
мальчика. Удивительно, что в семье у нас никогда не говорили, что находили
детей в капусте или что их приносит аист. Мы знали, и Марат в том числе, что
маму увезли в больницу рожать, и в этом не было ничего стыдного и почему-то
не вызывало у нас нездорового любопытства, как это принято думать в иных
семьях. Это все было для нас естественно, как дыхание, как рост травы, как
пение птиц.
Папка ждал мальчика. Но родилась
девочка. Он не огорчился, мы тем более. Девочку назвали Неллой. В то время,
очевидно, было принято давать изысканные нездешние
имена...
Нашей новой сестричке было несколько
недель. Я бегала в третий класс, а Лёля - в шестой. Начались январские каникулы.
Папка отвез нас с Лелей к бабушке Зосе в
Станьково. Лучших каникул для нас и быть не могло: спать на теплой русской
печке, принимать по утрам туда из бабкиных, таких милых корявых рук парное
молоко и запивать им мягкие калачи. А вечерами под завывание вьюги
слушать бабушкины сказки.
За несколько дней мы
привыкли к своей беззаботной жизни. Сидели однажды на печке, грелись,
прибежав с мороза, грызли яблоки "антоны", которые постоянно нам
подсовывала бабушка. В общем, день был как день: спокойный и радостный.
После уже я и не припомню таких безоблачных
дней.
И вдруг прибегает Костя Шуйский - один из
тех двух пареньков, которых папка когда-то взял жить к нам из детского дома.
Он был такой непривычно взъерошенный и растерянный, что мы сразу
насторожились: случилась какая-то беда. А беда и в самом деле страшная и
непоправимая обрушилась на нашу семью.
- Ивана
Георгиевича арестовали,- выдавил наконец из себя Костя, чуть не плача.-
Анна Александровна велела привезти девочек
домой.
Бабушка начала плакать, причитать, а мы тоже
разревелись: нашего папку арестовали? Кто его арестовал? Почему? Это же
наш папка, наш могучий Самсон, который сам судил лодырей и
прогульщиков.
Как уж мы встретились с мамой, не
помню...
Через несколько
месяцев, весной кто-то пришел к нам и сообщил, что видел, как наш отец
подметает двор казармы. Город тогда находился в нескольких километрах от
польской границы. Воинская часть располагалась почти в центре Дзержинска.
Мама велела нам с Лелей бежать к казармам:
может быть, нам удастся увидеть папку и показаться
ему.
Мы, на ходу натягивая на себя вельветовые
пальтишки, бросились опрометью по улице. Повернули налево, и все прямо и
прямо по дощатому настилу тротуаров, еще налево - и вот она,
горочка.
Сердце замирает: здесь где-то папка!..
Издалека виден солдат-постовой возле штаба, с винтовкой наперевес. Подходим... Папка с метлой в руках, в своем кожаном костюме, низко опустив
голову, тщательно сметает мусор с дорожки, идущей от крыльца штаба вдоль
высокого деревянного забора. Часовой подходит поближе к нему. Мы стоим
недалеко. Я толкаю Лёлю в бок: подойди, мол, к папке... Комок в горле,
хочется закричать, но я знаю, что кричать нельзя. Ноги в ботиночках озябли,
руки без варежек, покраснели. Шаг за шагом подходим ближе, и вдруг нас
увидел папка. Увидел, улыбнулся как-то необычно, горько, чуть повернув
голову в нашу сторону. Бледный, непривычно худой, но побритый, чистый.
Часовой заметил нас и прикрикнул:
- А ну отойдите,
здесь вам не место!
Мы отбегаем на несколько шагов
и смотрим на отца. Смотрим. Мучительно смотрим... На крыльцо выходит
командир и командует:
- Довольно, проходите
сюда.
Папка выпрямляется, бросает на нас
прощальный взгляд, идет. Позади него - часовой. И еще раз папка
оборачивается, вдруг улыбается, так знакомо встряхивает головой, словно
говорит: "Ничего, ничего, девочки мои, только не вешайте носы!" Он
скрывается в глубине здания.
Мы идем домой, ничего
не видя и не слыша вокруг, и горько плачем.
Дома
подробно, как только можем, рассказываем маме все, что мы видели. Она
держится - ни слезинки.
- Ничего, детки, папка
скоро вернется - он не виноват ни в чем, это какая-то ошибка.
Разберутся.
Но через несколько недель отца отправили
из Дзержинска в Минск. Знаю, что мама раза два ездила туда, возила передачи
- белье и продукты.
В одну из недель мама раза три
подряд все ездила в Минск. И вот привезла новость: такого-то числа будет суд
над папкой.
Разрешили ли приехать семье, не знаю, но
мама начала готовиться, шила папке рубахи, готовила белье, варежки, теплые
носки, сушила сухари. Отобрала свои и наши фотографии для папки. Нас
готовила особенно тщательно, хотя мы и без того всегда были опрятны и
скромно, но хорошо одеты. Она сделала нам какие-то обновки из своих старых
платьев, связала всем беретики из шерсти. И все наставляла, чтобы мы не
плакали "там", может, мы еще увидим папку. Она-то его не видела ни разу со
дня ареста.
Неллочка еще не ходила, но мама взяла и
ее с собой в Минск.
Приехал мамин дядя Александр и
ее родной брат - тоже Александр, дядя Саша. И вот мы все - мама, нас
четверо, двое дядьев - поехали поездом в Минск.
Не
знаю, какой это был суд: то ли областной, то ли республиканский, но это был
закрытый суд.
В здании суда (теперь здесь детская
музыкальная школа) шел ремонт, крутом был мусор и строительные
материалы.
Мы промаялись почти полдня: мама
несколько раз куда-то заходила, о чем-то спрашивала, сообщала нам: "Его еще
не привели"... И потом наконец: "Привели!" И: "Суд уже
начался".
А потом всех нас пустили в какую-то
пустую комнату, большую и светлую. От двери - прямо у окна - стул, а на
нем... сидит папка, а по сторонам конвоиры с винтовками. Нам разрешили
свидание на время перерыва судебного заседания.
Мы
стояли у стены и смотрели на отца, а он на
нас.
Неллочку мама держала на руках. Не помню,
говорили мы с папкой или так все время и промолчали. Наверное, не говорили,
иначе бы я помнила. Слишком большое расстояние было между
нами.
Но вот Марат оторвался от стенки и через всю
комнату побежал к отцу. Конвоиры ничего не сказали, даже не пошевелились.
Отец подхватил Марата, посадил на колени и, хорошо помню, сказал ему,
целуя голову:
- Ты один мужчина остаешься дома,
смотри, чтобы все было в порядке. Помогай маме,
девочкам.
"Мужчине" шел шестой год. Мама поняла:
папка "уедет" надолго, не выдержала - слезы стали душить ее, мы тоже
расплакались следом за ней.
Папка был еще бледнее,
чем тогда в Дзержинске, и костюм теперь казался на нем очень большим. Но
он был выбрит и даже подстрижен. Волосы же, красивые русые волосы, стали
седыми. Нам разрешили проститься, и мы поочередно поцеловали его. Потом
отец взял котомки, привезенные мамой, и его
увели.
Так и вижу до сих пор его серые потемневшие
глаза и плотно сжатые губы.
И снова мы ждали в
коридоре, мне казалось, целую вечность.
И вот мимо
нас прошел знакомый мне по Дзержинску и Станькову Опорож, единственный
свидетель на суде. (Через много-много лет я узнала, что папка вскрыл ящик с
запасными частями, а в нем оказалось оружие. Не прошло и часа, как его
арестовали. Видимо, ящик предназначался Опорожу, но случайно попал отцу.
Перепугавшись разоблачения, Опорож опередил отца и бросился с наветом.
Спустя восемь лет этот же человек навел гестапо на след
мамы.)
Мама бросилась к
Опорожу:
- Ну что там было, ну
что?
Он даже не взглянул в ее
сторону.
Через минуту, низко опустив голову, в
сопровождении конвойных, почти пробежал папка, бросив па ходу: "Анечка,
десять!" Мы все бросились за ним. Первой была Лёля, но перед самым носом у
нее захлопнулась дверь. Конвойный попридержал ее с той стороны, и когда мы
смогли выскочить на улицу, отец, окруженный конвоем, уже сбегал вниз по
улице и завернул за угол. Я его видела тогда в последний раз, сгорбленного
под тяжестью двух котомок через плечи и как будто убегающего под конвоем
от собственной семьи.
Мы отошли от здания суда
совсем немного, как вдруг я заметила, что с мамой происходит что-то
странное. Она быстро-быстро заговорила:
- Ты
маленькая, ты лишняя, ты никому не нужна...
И вдруг,
приговаривая все это, подбросила Неллочку. Та перевернулась в воздухе
головкой вниз, вот-вот ударится об асфальт. Но каким-то чудом мама ее
подхватила за ножки и продолжала говорить что-то страшное, несуразное,
кощунственное.
Я закричала, не помня себя, бросилась
к маме, но меня опередил дядя Саша, выхватил Неллочку из ее рук. Наша
сестричка даже опомниться не успела, ручонки сложила смешно, по-старушечьи, смеется, заливается, думая, очевидно, что с ней
играют...
Я подобрала на асфальте слетевший с ее
льняных кудрей беретик, надела ей на головку.
А с
мамой творилось что-то непонятное. Она по-девичьи звонко захохотала,
кофточка на груди разорвана, жакет нараспашку, коса упала на грудь. Серые
большие глаза стали темными-темными, горящими и
дикими.
Она вдруг громко
объявила:
- Вот свадьба так свадьба! А сколько
народу на моей свадьбе! Проходите, дорогие гости!-и запела какой-то папкин
романс.
Собралась толпа. Дядя Александр и еще кто-то чужой взяли маму под руки и повели в ближайший
сквер.
Ее усадили на скамью, а она весело
сопротивлялась - ей хотелось петь и плясать.
- Но
почему, почему невесте нельзя повеселиться?-искренне недоумевала
она.
Кто-то догадался вызвать "скорую
помощь".
Не помню, как мы добрались домой в
Дзержинск. Несколько дней мы жили одни. Лёля хозяйничала, я и Марат ей
помогали, мы по очереди нянчили Неллочку. Она была грудной, мама ее
только-только начала подкармливать манной кашкой. Мы тоже варили ей
манку на воде, но Неллочка все же очень плакала, особенно
ночами.
Потом за нами стала присматривать
сердобольная бабушка Кондратовичиха. Она топила печи, готовила обед,
принося с собой продукты. По-моему, у нас, кроме картошки, капусты и
небольшого запаса манки, ничего в доме не было.
Мы
все сидели у окна на кухне, на нашей широкой скамье-топчане, и смотрели на
улицу: все ждали и ждали...
Недели через две
вернулась мама, в своей уже зашитой и аккуратно заштопанной белой
кофточке и в строгом черном костюмчике. На ее маленьких красивых ногах
вместо утерянных в больнице туфель были огромные, разношенные
тапочки.
Мама долго не заходила в большую комнату
и спальню, а все старалась быть на кухне, пила лекарства и обязала меня
напоминать ей о времени их приема по часам. До этого я, как назло, плохо
разбиралась в часах - никак в моем понимании не укладывались все цифры и
стрелки. Но беда быстро "образовала" меня...
От отца
мы получили несколько писем из Биробиджана, он даже фотографию прислал.
Адреса его не помню, называлась там "Автоколонна-5". Знаю, что он работал
шофером на лесозаготовках.
Потом кто-то из его
товарищей по заключению сообщил нам в письме, что папка тяжело заболел и
сам написать не может. Чем болен, не было сказано. А еще через некоторое
время пришло сообщение о его смерти. Это известие, помню, совпало со
смертью Неллочки от
скарлатины...
Все годы, всю
жизнь, где бы ни была, что бы со мной ни случалось, я вспоминала отца. И
наяву, и во сне...
Когда закончилась война, я сразу же
стала писать во все инстанции, прося разобраться в деле отца. Но вначале эти
просьбы ничего не давали. Я понимала, что нужно время, но ждать не могла. Я
начала сопоставлять рассказы местных жителей и бывших работников
Дзержинской МТС, то, что узнала до войны от матери, что увидела и узнала в
годы войны, и все более убеждалась, что в аресте отца и гибели матери был
прежде всего повинен... пан Опорож.
Избушка
Опорожей стояла на болоте около реки, недалеко от моста при въезде в
Станьково. Была она маленькой, низенькой, чуть ли не вросла в землю. Жена
Опорожа, всегда чумазая, с папироской в зубах, вертелась около дома. Было у
них шестеро дочерей, пять умерло, не достигнув совершеннолетия, осталась
одна Аня. Она была моей одноклассницей по станьковской школе. Опорожи
жили замкнуто, в селе почти не бывали, ни с кем не дружили, никто и к ним не
заходил. Сам Опорож все лето пас коров, а зимой служил сторожем в
Дзержинской МТС.
Он один во всем Станькове, не
говоря уже о Дзержинске, ходил в лаптях, и все, особенно дети, смотрели на
эти лапти, как на чудо, как на музейную
редкость.
Более молчаливого, неразговорчивого и
угрюмого человека трудно было себе
представить.
Говорили, будто родом он из Польши,
бежал от немцев в 1918 году и еще с тех пор осел в
Станькове.
С детских лет мне запомнилось, что
Опорож почему-то очень боялся отца, был в отношении его услужлив до подобострастия.
Однажды, когда я вертелась в мастерской,
Опорож вызвался помогать отцу, подносил ему детали, зажимал их и тиски. А
когда Опорож ушел, папа, глядя на его согнутую спину, сказал механику
Русаку:
- Эх, и темный это человек! Как колодец,
темный... Почему он ходит в лапотках, Русак?
-
Нравится. Я уж его спрашивал. Говорит, удобно и тепло. Зря ты, Иван,
просто забитый, темный человек.
- Уж куда забитее,
куда темнее... И пожалеть бы его надо, а вот почему-то не
могу.
- Он тебе все услуживает, а ты воротишься от
него.
- Ворочусь, потому что не люблю юродивых. А
он юродивый.
Я тоже не понимала отца и, скорее,
была согласна с Русаком.
Стоило появиться
гитлеровцам в Станькове, как Опорож тут же снял лапти, домотканую свитку,
оделся в новый костюм с галстуком, распрямил плечи и заговорил на немецком
языке. Все в Станькове и Дзержинске только ахнули, видя такое превращение
забитого, неграмотного "пастуха" и
"сторожа".
Теперь уже люди его ненавидели, и
боялись. Опорож переехал в лучший стапьковский дом в графском парке: то
был уже "пан Опорож", "пан переводчик"!
В 1941
году он подвизался не только у тех немцев, которые пришли в Станьково, но и
в Дзержинске, и в Минске. Иногда он жил там по нескольку
месяцев.
При аресте мамы он не присутствовал, но на
ее допросе был. И ездил в минское гестапо. Я запомнила это потому, что,
вернувшись в Станьково, он пришел к нам, проверил все патефонные
пластинки и книги. Часть пластинок взял себе, а некоторые тут же
разбил.
- Ждете мать?-спросил
он.
- Ждем,- ответили мы с Маратом в один голос.
Он криво усмехнулся:
- Ждите. Я ее видел в Минске.
Привет вам передавала. - И, впившись глазами в лицо Марата, спросил: -
Чти зверем смотришь? Или тебе жизнь надоела?
-
Это вы смотрите,- ответил Марат, не опуская глаз
-
Я-то знаю, что смотрю. Морда мне твоя противна.- Он опять криво
усмехнулся и вставая закончил:-Ну да всё равно подохнете. Теперь-то уж
подохнете. И духу не останется от Казеев...
С конца
сорок второго года Опорож окончательно переехал в Дзержинск и жил там под
крылышком оккупантов. Видно, боялся мести партизан и не без основания
считал, что в Станькове им было бы легче расправиться с
ним.
В сорок четвертом году он убежал вместе с
гитлеровцами, но был схвачен советскими воинами. Его судили и приговорили
к длительному тюремному заключению.
Историю с
ложным обвинением отца ему на суде не предъявили. Просто об этом тогда
еще не знали. Но с него хватило и того, что было на его совести за три года,
начиная с сорок первого.
Где-то в местах заключения
он вскоре умер.
Я и не хочу его вспоминать, и не могу
не вспоминать. Почему-то не могу забыть, с какой ненавистью он
всматривался в лицо Марата. Ведь Марат так был похож на отца. Почему
Опорож бешено ненавидел отца и всю нашу семью? И кто он вообще был? На
эти вопросы я, очевидно, так никогда и не смогу до конца
ответить.
В одном я не сомневалась и не сомневаюсь,
что отец в чем-то стал поперек дороги Опорожу, и вся история с пулеметом
была чистейшей провокацией.
Я продолжала писать
письмо за письмом, пока через несколько лет не получила сообщение, что
Иван Георгиевич Казей полностью реабилитирован и посмертно восстановлен
в партии.
Какое облегчение это принесло бы маме и
Марату! Конечно, невозможно вернуть такие утраты, как наши, и все же легче
жить, когда знаешь, что память об отце очищена, что имя его отныне ничем не
запятнано.
ВОЙНА
Мама вернулась в Станьково в
апреле 1941 года, как и обещала мне.
Мы начали жить
своей семьей втроем: мама, я, Марат. У нас ничегошеньки не было. Мама
прибегала к уже испытанному заработку шитьем. Да и то спасибо жене
председателя сельсовета Матрене Жуковской: она безвозмездно предложила
свою швейную машинку (наша давно была
продана).
Мы с мамой привели в порядок избушку
бабушки Зоей, маленькую, низенькую, с крошечными оконцами. Настоящую
избушку "на курьих ножках". Мы выбелили ее, выклеили, поставили две
железные кровати с деревянными досками: одна для нас с мамой, другая для
Марата, повесили дешевые ситцевые занавески. Тетя Вера вернула нам
патефон и пластинки, а баба Мариля - кое-что из вещей бабушки
Зоей.
В домике стало уютно, чисто, хорошо, как в
лучшие времена, когда здесь суетилась милая бабушка
Зося.
Жаль, что сад из-за сильных морозов погиб, как
погибли тогда и другие сады в нашей местности, но мы засеяли огород и с
нетерпением ждали урожая. Мама снова начала подумывать о работе, о своем
драмколлективе, который заглох без нее.
Она
постепенно оправилась от невзгод, стала веселее, к ней по-прежнему все
хорошо относились, с доверием и симпатией.
В июне я
сдавала экзамены за восьмой класс, Марат окончил четвертый и гулял с утра
до вечера.
По-старому в нашем доме звенели песни,
читали стихи, слушали музыку. Мама отдавала предпочтение классической
музыке, тетя Вера охотно вернула нам эти "непонятные" пластинки, оставив
себе веселые.
Мама много с нами разговаривала обо
всем: о своем прошлом, о книгах, о музыке, операх, которые она слушала в
Москве во время институтских сессий; а со мной - и о любви, девичьей чести.
Ненавязчиво, не нравоучительно, умея вызвать на откровенный разговор,
незаметно что-то внушить.
На всю жизнь я запомнила
любимые мамины афоризмы: "Любовь - это высокое и благородное чувство,
делающее человека красивым"; "Внутренняя красота выше внешней"; "Твоя
улица, деревня - кусочек Родины твоей"; "От того, как человек мыслит,
зависит его речь и поведение. Надо мыслить чисто"; "Прямота и честность -
в глазах у человека"... Может, некоторые из этих изречений мама придумала и
ни сама, но, как часто бывает, у одного человека даже известная истина звучит
убедительно и запоминается, а у другого и оригинальная звучит ложно и тут
же забудется.
Все, что исходило от мамы, прочно
западало мне в душу.
В то июньское воскресенье я
прибежала встревоженная с почты, куда носила письмо, и сказала, что "почта
на военном положении". Это было примерно в девять
утра.
- Ну что ты, глупая!-успокоила меня мама.-
Наверное, там занятия военные. А ты уж небось подумала -
война?
Марат ел оладьи со сметаной и вдруг запел,
сочиняя на ходу:
Если
завтра война
На колхозного
коня
Сяду я и помчусь на
бой!
- Ну вот, Адуля,-
мама прижала к себе мою голову и засмеялась,- у нас такой защитник, а ты
испугалась чего-то
И все же, когда Марат кончил есть,
мама сказала:
- Давайте сходим к центру все
вместе.
Подойдя к почте, мама убедилась, что я права.
На улице было тихо, никого не видно, но кто-то уже сказал, что с военном
городке все подняты по тревоге.
Мы вошли во двор к
тете Вере. Солнце, теплынь, зелень кругом бушует, пчелы жужжат, играют
дети мал мала меньше- у тетки их было
четверо.
Вдруг - вой сирены. Тревожный,
раскатистый, требовательно-грозный, хватающий за душу. И в небе - черные
пятна самолетов. От них отделяются черные точки и падают на землю. Где-то
за парком раздается грохот взрывов - один, второй,
третий...
Через несколько минут мы уже знали, что
бомбы попали в цель: одна - в клуб, другая - в казарму. Несколько человек
ранено, один убит. Это был ученик нашей школы из деревни Каменка,
которого я хорошо знала. Он шел домой через военный городок. Только
несколько дней назад я встречалась с ним в школе: нестриженый, вихрастый, с
добрыми, немного выпуклыми глазами...
В полдень
уже передавали из уст в уста подробности сообщений но радио. Это была
война! Та самая война, к которой готовились, о которой много говорили, пели
песни, и все же пришла она так неожиданно, так невероятно
быстро...
К вечеру 22 июня в основном были
эвакуированы на автомашинах семьи военнослужащих, но благополучно
уехали только несколько первых машин, а все остальные фашисты разбомбили
или расстреляли на дорогах прямо с самолетов...
В
этот же день все военнообязанные мужчины были собраны в парке у школы, и
тут же им выдали оружие и обмундирование. Потом они строем ушли из
Станькова, сопровождаемые толпой плачущих женщин, детей, старух и стариков. Впрочем, уходу призванных предшествовал еще один эпизод, о котором я
расскажу чуть позже.
По шоссейной дороге мимо
нашей деревни группами и в одиночку, пешим ходом и на машинах стали
двигаться на восток советские войска; с детьми, с узелками шли и шли
гражданские люди, испуганные, растерянные, ничего не понимающие.
Фашистские самолеты непрерывно летали
над деревнями, на бреющем полете строчили из пулеметов по дорогам и деревенским улицам.
В военном городке опустели дома
командного состава и казармы, там оставалось только небольшое
подразделение пограничников. Они появились в первый день войны и задержались позже всех.
Мама после полудня ходила в
парк. Оттуда увозили женщин и детей. В том числе и мамину "заказчицу" и
подругу тетю Дусю. Я не помню ее фамилии, но знаю, что ее муж был
капитаном. У тети Дуси было двое мальчишек-двойняшек, которые учились в
одном классе с Маратом, и девочка лет двух.
Я тоже
вместе со своей школьной подругой Ниной прибежала в парк. Машины ушли
только к вечеру. Тетя Дуся плакала, а мама стояла на подножке автомашины и
успокаивала ее. Потом они поцеловались, и тетя Дуся дала маме ключ от своей
квартиры, попросила забрать что-нибудь из вещей, особенно баул,
оставленный на столе, и сундук с одеждой.
Мама
пообещала все сделать.
Машины были уже заведены,
когда в парк подошла группа бойцов во главе с командиром. Тетя Дуся
крикнула им:
- Товарищи, неужели все так серьезно?
Откуда вы? Что слышно?
Как мне показалось, очень
бодро командир ответил:
- Ничего, женщины, скоро
будет все в порядке.
Машина двинулась, мама пошла с
ней рядом за ворота, что-то еще крикнула вслед. Потом мы постояли немножко
и пошли аллеей, через парк, в деревню.
Позже я
узнала, что колонна машин, в которой ехала тетя Дуся с детьми, была
уничтожена фашистскими бомбардировщиками: погибли все - и женщины и
дети. Чудом спасся только один шофер-солдат.
Тревожно и печально шумела листва в парке.
Какая-то неуютная, мрачная темень ложилась на землю, расплываясь между
деревьями. На одной скамейке лежал раскрытый, оставленный кем-то чемодан,
рядом - ватное детское одеяльце.
Мы присели с
Ниной на эту скамью и о чем-то разговаривали. Может быть, о тете Дусе и о
том, что вот кто-то впопыхах забыл вещи. Да и мало ли что было забыто и
оставлено в этот страшный, непонятный день... И вдруг - стрельба! От нашей
школы, куда только что ушли бойцы с бравым командиром. Одиночные
выстрелы из винтовок, пулеметные очереди.
Пули
просвистели мимо нас -мы спрятались за деревья. Визг пуль терялся где-то в
дереве - над моей головой и около ног, плотно сдвинутых одна к одной,
прижатых к стволу огромной липы.
Потом я бросилась
снова к скамье, схватила одеяльце.
- Нина, под
одеяло - здесь вата!-крикнула я.- Бежим
домой.
Укрывшись маленьким одеяльцем, по сути
дела, "спрятав" под него только головы, под градом пуль, мы выбежали из
парка на совсем открытое место - на дорогу и мост у озера. И снова град
пуль... Как козы, стремглав, бросились через мост, скатились с откоса вниз к
реке. А потом уже через болото, огороды и в чей-то двор. Оттуда Нина
побежала к своему дому, а я - к бабе Мариле. Тьфу, черт: калитка на запоре!
Перемахнула через забор -это я умела не хуже любого мальчишки. Дверь в
дом тоже заперта. Стучу кулаками, запыхалась, сердце колотится
вовсю...
- Это ты?-с порога взъярилась баба.- И
где тебя холера носит?
В доме темно, тихо, мама тоже
была здесь. С улицы доносился топот бегущих людей: туда, к шоссейной
дороге, к лесу, к полигону.
Говорили, что пришедшие
в парк бойцы с бравым командиром во главе оказались немецкими
десантниками, и они открыли огонь по тем, кого собрали в школе и
обмундировали работники военкомата. Наши в ответ открыли огонь из только
что выданного им оружия.
Марат куда-то исчез и
долго не возвращался, мама просидела всю ночь, не раздеваясь, у окна. Марат
пришел домой только к утру, и не помню уж, где он
пропадал.
В тот же день, уже перед вечером, к нам,
хромая, зашел раненый боец. Ранение было в бедро. Он попросил воды и с
жадностью, какой я еще не видела, выпил несколько кружек. Мама решила
сделать ему перевязку, но ничего у нас для этого не было, и в ход пустили
простыню. Когда совсем стемнело, мама велела мне незаметно, огородами
пройти в дом сельского фельдшера Иосифа Густавовича Русецкого и передать
ее записку. Я хорошо знала эту дорогу и вскоре вернулась вместе с
фельдшером. В руках у него был неизменный саквояж, без которого даже и
нельзя было представить себе этого скромного, милого человека,
пользовавшегося во всей округе большой
популярностью.
Иосиф Густавович обработал раны,
оставил лекарства, перевязочный материал, дал маме наставления и
ушел.
Раненый остался у нас, и мы за ним ухаживали.
Так прошло два дня, а на третий мама проводила его на проселочную дорогу:
он ушел на восток.
По утрам теперь мама ежедневно
варила в большущей кастрюле какой-нибудь суп, картошку и кормила всех,
кто заходил к нам. А заходили многие, потому что от леса и шоссейной дороги
наш домик самый крайний.
В один из этих дней мама
вспомнила о поручении тети Дуси, дав ключ от ее квартиры, послала меня,
Марата и свою младшую сестру Ларису принести, если сможем, баул и
сундук.
За один раз мы втроем, то и дело отдыхая,
донесли сундук. В нем было, в основном, мужское белье, верхняя мужская
военная и гражданская одежда, отрезы материалов.
Вторично мы пошли только с Маратом: баул был
меньше, и мы вполне справились с его доставкой.
Вот
тогда-то мы и увидели на окне в квартире тети Дуси авоську, в которой были
сложены детские одежки, бутылочка с молоком, уже прокисшим, что-то еще из
продуктов - не то пирожки, не то бутерброды, а в самом низу, завернутый в
газеты, без кобуры, лежал браунинг с полной обоймой. Мы его вынули, а все
остальное оставили. Квартира еще дышала человеческим теплом, недавним
уютом. Дверь мы снова закрыли на ключ и
ушли.
Очень уж обрадовались мы с Маратом своей
находке.
...Не забыть, как в
Станькове появились первые фашисты (я не считаю
десантников).
Я спала днем, потому что ночью мы,
девчонки и мальчишки, дежурили на улицах
деревни.
Меня разбудила мама (это было 28 или 29
июня), прижала к себе и заплакала.
- Доченька,
Адуля, фашисты уже в деревне. Мы теперь под их
властью...
Мама рассказала, как они выглядят, как
ведут себя, как их встретила одна женщина "хлебом-солью" ("Дрянь и продажная шкура",- с омерзением сказала
мама).
Фашисты расположились в бывшем имении
графа Чапского, рыскали по деревне, грабили.
Наш
лесник Лукашевич даже куплеты сочинил по этому поводу, один из них я
помню: "Дай мне яйца, масла, шпек, я нерусский
человек".
А назавтра, ничего не зная, в Стаиьково
зашли наши бойцы. Их было одиннадцать человек вместе с младшим командиром. Они спокойно держали путь в деревню.
Увидев
это, мама выбежала им навстречу.
- Товарищи, куда
же вы?-окликнула она.- У нас в деревне
немцы!
Они даже опешили: как - немцы? Не может
быть!
Я подтвердила мамины слова. Благо что наш
дом крайний и дверь выходит не к деревне, а к лесу,- мама пригласила их
всех зайти во двор, чтобы с улицы никто не
заметил.
Это было ранним утром, погода стояла
изумительная: солнечное, мягкое, влажное
тепло.
Уставшие и голодные наши "гости"
расположились за домом у погреба. Мы с мамой на скорую руку сварили картошку и какой-то борщ, покормили их.
Теперь встал
вопрос: как их всех переодеть? Мама вынула из сундука тети Дуси два
гражданских костюма. Их хватило, чтобы переменить внешний вид четырем
солдатам: надевали или брюки, или пиджак.
А еще
семь человек?
Мама недолго раздумывая села за
машинку и, как смогла, сшила из отрезов тети Дуси брюки и
рубашки.
А я в сенях на примусе в бельевой выварке
красила в черный цвет еще два солдатских костюма, так как материала явно не
хватало, да и времени не было.
К вечеру костюмы
высохли и стали какие-то пегие, коричнево-черные.
Как бы там ни было, а одиннадцать человек
преобразились, выглядели, правда, немного смешно, но вполне штатскими. Ну,
а если у кого-то брюки или гимнастерка оказались защитного цвета - это не
беда: в такой одежде ходили многие
колхозники.
Ночью они ушли. Мы с Маратом
проводили их через шоссе к лесу, рассказали, как идти лесом на
восток.
Они решили во что бы то ни стало пробиться к
своим.
Говорили тогда, что бои идут где-то на
Березине, под Борисовом, километрах в 120-130 от нас. Эти сведения мы, конечно же, сообщили солдатам. Они уходили с
оружием.
Что бои шли недалеко, было ясно и без
наших слов - канонада докатывалась сюда.
Потом
часто заходили в наш дом убежавшие из плена, особенно из концлагеря
Негорелое, что был устроен всего километрах в семи от Станькова. Мы их
прятали, кормили, переодевали, доставая кое-что у соседей, которым мама доверяла.
...Помню, пришел один, еле передвигая ноги
от голода, держась за заборы. Вошел в дом и
упал.
Мама дала ему съесть только маленький кусочек
хлеба и одну картошину. Я подумала: неужели она начала жалеть
бульбу?
Она молча постелила ему тут же на полу, и он
спал, не просыпаясь, почти сутки. Мама объяснила мне, что такому
истощенному сразу наедаться нельзя.
Когда он начал
шевелиться, мама дала ему какие-то капли и стакан кипяченого
молока.
Нашлось у нас немного крупы, и я сварила
жидкой каши.
Оборванный, грязный, измученный, на
одной ноге рваные раны от укусов овчарки - такой он лежал на
полу.
И снова я бегала к фельдшеру Русецкому, и
снова он приходил вечерами и делал перевязки. Одеть нашего нового "гостя"
было не во что: и дома, и у соседей мы подчистили все. И тогда я попросила
своего одноклассника Костю Бондаревича, он принес какие-то старые
брюки.
Товарищ этот прожил у нас дней десять, а как
и куда ушел, не помню.
В
начале августа Марат принес весть, что фашисты схватили Комалова и
Дядиченко и держат их взаперти в графском каменном
склепе.
В первые дни войны в Станькове начали
появляться так называемые "приписники", бывшие военнослужащие, особенно
те из них, кто служил когда-то в нашем городке и знал здешние места и людей.
Почти в каждом третьем доме были такие люди, их "приписывали" в члены
своих семей; многим так спасли жизнь, называя сыновьями, мужьями и
братьями. Позднее некоторые из них партизанили, некоторые уходили на
восток, но я не знаю ни одного случая, чтобы кто-нибудь из этих людей стал
предателем или полицаем.
Баба Мариля тоже
приютила у себя двух молодых ребят - Николая Комалова и Сашу Дядиченко,
служивших еще совсем недавно в 59-м стрелковом полку недалеко от
Станькова.
Эти ребята ("сыновья" бабы Марили)
очень часто стали бывать у нас и, как я потом узнала, вели какие-то серьезные
разговоры с мамой.
Не знала я тогда и того, что они с
помощью Марата прятали на кладбище оружие.
Мама
сразу решила, что ребят этих надо как-то
спасать.
Задержали их прямо на улице без документов,
а у бабы Марили осталась справка на имя Комалова, что он лежал в начале
июня в госпитале по поводу хронического ларингита (ему удаляли гланды), и
фотография Дядиченко еще до армии, в гражданской одежде. Она была им
подписана.
Мы с мамой думали, гадали, что сделать; в
"жены" ни одна из нас не годится. Потом я сбегала за маминой сестрой
Ларисой, и мы ей предложили такой план: она идет в комендатуру и
рекомендуется женой Дядиченко (для этого мы на его фотографии пишем над
подписью: "Дорогой жене"). Я же - как "сестра" Комалова - являюсь туда с
его справкой, в которой дату выписки из госпиталя подправили на 21
июня.
Прежде всего я сбегала и узнала, нет ли в
комендатуре Опорожа, он теперь все время толкался там. Надо ли говорить,
как мы боялись этого человека!
Я, как уже упоминала,
училась в одном классе с его дочерью Аней и имела все основания зайти к ней
домой.
Пан Опорож обедал, перед ним - графин с
водкой. Жена прислуживала, Аня заводила патефон. Я поздоровалась с ним
вежливо, он что-то буркнул в ответ. Мы пошептались с Аней. По всему видно,
что Опорож только недавно пришел домой.
Выбежав
от Опорожей, я заметила, что в озере, вблизи от парка, кто-то моет бочку, а
рядом стоит немецкий часовой. Любопытство потянуло меня к этому месту.
Подошла и вижу: это Комалов и Дядиченко моют походную кухню, которую
привезли к озеру на себе. Я прошла мимо, не взглянув на них, и стала
разговаривать с часовым. Он гнал меня, а я, глядя ему в глаза, кричала, благо
он не знал русского:
- Мы придем с Ларисой в
комендатуру. Запомни, Саша: ты ее муж. А ты, Коля,- мой брат. Мы
попробуем вас выпросить миром.
Часовой оттолкнул
меня, велел Комалову и Дядиченко впрягаться и везти обратно вымытую
кухню.
Но дело уже было сделано, и мама, узнав, как я
ловко провела часового, поразилась:
- Ну и ну!
Откуда это у тебя?
А я и сама не знала откуда: все
произошло как-то само собой.
Вскоре мы с Ларисой
были у коменданта. Она - трусиха, я - сорвиголова, мы славно дополняли
друг друга. Плохо помню, что и как говорила Лариса в защиту своего "мужа",
но хорошо помню, как я молила, плакала, просила, совала справку, объясняла,
как могла, по-немецки, который учила в школе, что брат мой после операции
выписался, справку ему выдали, а документы он должен был 23 июня получить
у дежурного врача. А тут война. У нас еще есть младший брат, а отца-матери
нет. И прочее, и прочее.
Комалова отпустили, и мы
ушли с ним, а Дядиченко задержали. Но тут, как говорится, не было бы
счастья, да несчастье помогло.
В комендатуру после
обеда навеселе вернулся Опорож. Сашу Дядиченко он видел в первый раз, но
когда комендант спросил у него, кто это, живет ли он в Станькове и действи-
тельно ли женат, тот, пьяный, сказал что-то вроде: "Кажется, из Станькова. Я
молодых плохо знаю... Да, вроде бы
женат".
Комендант решил отпустить
Дядиченко.
После этого и мой "брат", и "муж"
Ларисы прятались, не попадались на глаза
Опорожу.
Немного позже, когда у нас уже скрывался
политрук Домарев, мама спасла его от угона в Германию, а может быть, и от
расстрела, тоже несколько рискованным образом.
В
тот день оккупанты окружили деревню и всех жителей согнали в большую
казарму военного городка. Началась проверка документов. Всех, кому не
исполнилось шестнадцати лет, отгоняли в одну сторону, взрослых, у кого
документы в порядке, отпускали. Всех без документов - особенно мужчин - сразу в машины и увозили.
За столом, к которому все
подходили в порядке очереди- Опорож, староста Юран, комендант из
Дзержинска. Многие успели спрятаться, в том числе и Дядиченко с
Комаловым, а Домарева из-за больной ноги взяли. Мама стоит позади него. У
меня все в порядке. Я уже среди тех, кому нет шестнадцати. Домарев, хромая,
подошел к столу, мама из-за его спины протягивает свой паспорт и, в упор
глядя на Опорожа и Юрана, говорит:
- Это мой муж.
Он бежал из Бреста, в созетском лагере там
сидел.
Прошла какая-то доля минуты. Возможно, в
голове Опорожа за это время пронеслось многое, и что-то шевельнулось в
подлой душе Юрана - не то страх, не то совесть, но на вопрос коменданта,
правда ли это, оба они, не говоря ни слова, наклонили
головы.
Никогда не забуду глаза мамы в этот момент:
темные, гневные и угрожающие, они словно гипнотизировали этих двух
мерзавцев.
У меня захватило дух, ноги подкосились, и
я чуть не потеряла сознание. Ведь это происходило на глазах у всей деревни,
которая хорошо знала мужа Анны Александровны
Казей...
В полной тишине мама и Домарев уходили из
казармы.
Домарев пришел к нам в конце июля или
начале августа. Его привели Марат и Комалов. Мама не удивилась появлению
этого человека. Марат рассказал мне, что встретил Домарева в лесу еще вчера,
ночью его перевели на старое кладбище. До этого немцы сильно
контролировали лес, дорогу за кладбищем. Они ходили, как папуасы,
обвешанные ветками.
Мама посылала меня в этот день
пройти в лес и проверить, пропустят ли они меня, посмотреть, где они стоят,
много ли их. Я ходила дважды, брала с собой корзину для грибов, немного
еды. Кто-то должен был меня, в случае, если я пройду в лес, встретить, забрать
еду. Но оба раза меня возвращали. Немцы рылись в моей корзинке, а я
говорила, что иду за грибами и для себя несу
полдник.
Поздним вечером Домарев появился у нас.
Он был ранен в ногу, на ней вместо бинта - гнойная, грязная
тряпка.
И снова через огороды я бежала к Русецкому.
И снова он пришел со своим неизменным
саквояжиком.
Когда я увидела Домарева в первый раз,
лицо его мне показалось знакомым, но разобраться хорошо не могла: обор-
ванный, грязный, заросший.
Через несколько дней я
уже была убеждена, что видела этого человека. Мне был знаком и этот
длинноватый нос с маленькой горбинкой, и большой рот, и немного криво поставленные зубы, и выпуклые светло-серые глаза, и густые рыжеватые брови, и
такие же с рыжинкой волосы, и веснушки... Мало-помалу я начала
припоминать: он был тогда с тремя кубиками на петлицах и со звездой
политработника на рукаве гимнастерки. Мы, девчонки и мальчишки, пробирались через дыру в заборе в клуб воинской части посмотреть кино. И этот
высокий, стройный политрук не раз выставлял нас из клуба. Однажды он
вызвал даже солдата с винтовкой, и тот нас "сопровождал" далеко за
проходную будку... Но все это было еще до войны, в середине 1940 года.
Тогда, естественно, я недолюбливала этого строгого начальника клуба 59-го
стрелкового полка... Сейчас я могла судить более объективно: он был
спокойный, малоразговорчивый, и, когда улыбался, лицо его удивительно
преображалось- становилось мягким и
добрым.
Чудесные это были
ребята - Саша Дядиченко и Коля Комалов. Понимая, как это трудно, все же
попробую нарисовать их портрет. Я вообще за последнее время разворошила
свою память: даже не подозревала, что сохранилось так много и с такими
мельчайшими подробностями.
Вот Коля.
Темноволосый и черноглазый, лицо круглое, явно восточного происхождения,
но белое, со следами перенесенной оспы. Глаза с чуть заметной раскосинкой,
очень быстрые и смешливые. Несмотря на небольшой рост и маленькие руки и
ноги - совсем не мужские,- Коля отличался силой и ловкостью. Любил петь,
много рассказывал о своем воинской службе, почти наизусть знал всего
Суворова. Мне нравился Суворов с его короткими, рублеными и ясными фразами. Марату тоже. От Коли мы по-настоящему узнали и о Маяковском. Он
мог часами с пафосом и немножко смешно читать его стихи и целые поэмы. И
хотя многое в то время нам было не вполне понятно, любить Маяковского я
научилась именно у Коли. Он часто вспоминал Алтай и свой родной Барнаул,
горевал, что родители ничего не знают о его судьбе и, наверно, оплакивают его
сейчас...
А вот Саша Дядиченко. В моей памяти они
всегда рядом- Коля и Саша, как братья-близнецы, хотя более непохожих друг
на друга людей трудно себе представить.
Сухощавый,
жилистый, длинноносый, с некрасивым лицом, Саша был застенчив, краснел
по любому поводу и без повода. Он был медлителен в движениях и, в отличие
от быстрого, энергичного Коли, казался флегматичным, все больше
помалкивал и тайком писал стихи. Я-то знала об этом: в большинстве своем
они посвящались мне...
Коля ходил в домотканых
грубых брюках, в слишком просторной для него синей косоворотке и пиджаке
с разноцветными заплатами. Саша - в кордовых брюках и тоже в
косоворотке, но только черной (мама сшила), старая солдатская телогрейка
даже в жару накинута на плечи.
О, как хорошо, как
ясно предстают они передо мной даже сейчас в этом нищенском одеянии с
чужого плеча...
Я к ним настолько привыкла, что
тосковала, если им случалось день или два не появиться в нашем доме. Я
бежала к ним навстречу, они мне стали как родные братья. Коля был постарше
Саши года на два, но особой разницы в их возрасте я не видела: одному - лет
двадцать, другому - года двадцать два.
Да,
относилась я к ним, как к старшим братьям, а они ко мне - соответственно,
чуть покровительственно и как-то но-особенному
бережно.
Втроем, а то и вчетвером - с Маратом, мы
уходили в лес, сидели плечом к плечу, тихонько пели советские
песни.
Но мои названые братья не всегда были со
мной и Маратом.
Случайно я увидела однажды ночью,
как они вместе с Домаревым куда-то ушли. Вернулись почти уж под утро. Домарев лег на полу поспать, ребята задами пошли к бабе Мариле на
сеновал.
А я в это время сидела на крыше сарая,
обхватив коленки руками, смотрела на небо и слушала звуки
ночи.
Это было мое излюбленное место и самые
лучшие минуты. Отсюда я видела, как появляются первые лучики света, как
неожиданно и каждый раз по-новому восходит
солнце.
Отсюда, с крыши, я увидела однажды, как
Домарев и ребята возвращались со стороны старого кладбища... Что они
делали там? Куда ходили? Я поняла, что в доме от меня есть какие-то
секреты.
Я сказала об этом маме, она
рассмеялась:
- Глупая, просто они считают тебя
девочкой и не хотят подвергать опасности!
Я надулась
и на ребят и на маму.
Очень я волновалась, когда
заметила, что и мама стала исчезать из дому. Возвращалась она радостная,
возбужденная. Ночью, вместе с Домаревым, Сашей и Колей, переписывали
сводку Совинформбюро. Но вот и мы с Маратом получили первое "боевое
задание": прокрадывались по тихим, безлюдным улицам села и расклеивали
сводки на деревьях, на дверях бывшего сельсовета, а теперь управы, на
перилах моста, на заборе парка.
Ночью к нам пришли
четверо незнакомых мне людей. Мама разбудила меня и велела тихо провести
их к домам тех наших односельчан, которые, как мы знали, в первые дни
войны воспользовались ситуацией и натаскали к себе воинского
обмундирования со склада.
Марат уже не спал. Вместе
с ним мы показали дома Фаины Скоп и Юрия Буйницкого. В первом доме
хозяйка подняла было крик, но ее тут же приструнили. У нее оказалось немало
белья, гимнастерок, брюк и сапог. Во втором доме все обошлось спокойно.
Буйницкий без возражений все отдал.
- А как же,-
говорил он,- мы - с открытым сердцем... Ведь я что: думаю, пусть фрицам
не достанется... А нашим, советским, я с превеликой
радостью...
К Коле и Саше прибавился еще Михаил
Бондаревич - молодой советский офицер, наш, станьковский, житель. Собирались они ночью, и особенно в те дни, когда мама и Иван Андреевич
Домарев ходили куда-то слушать радио и записывать сводки
Совинформбюро.
Мама и все мы были начеку: почти
ежедневно я или Марат ходили к парку и в военный городок разведать, что там
делается. В городок прибыла какая-то немецкая часть, в парке тоже были
фашисты.
В один из этих дней Иван Андреевич позвал
меня и Maрата и дал такое задание: пробраться в клуб бывшего 59-го
стрелкового полка (он улыбался при этом, хитро поглядывая в мою сторону:
мол, тебе, Ада, эта дорога хорошо знакома), зайти в помещение киноустановки
и взять кусок линолеума, которым там был устлан
пол.
Конечно, и я и Марат хорошо знали туда дорогу,
но ведь кругом фашисты, и, чтобы войти в кинобудку, нужно было подняться
метра па два с половиной по наружной лестнице.
Не
знаю, откуда уж мама достала яблоки, своих у нас не было. Она принесла
килограммов десять, не меньше, и мы с Маратом пошли продавать их
немцам.
В самом клубе - он уцелел - была
солдатская казарма, а все бывшие казармы, за исключением трех, были
разбомблены в первые же дни войны.
Мы подошли к
клубу, но часовой к самым дверям не подпустил. Я стала в сторонке и начала
торговать, а Марат играл поблизости, подбрасывая яблоки. Я спорила,
тщательно считала пфенниги, советских денег не брала, с азартом торговалась,
объясняясь, уж как могла, по-немецки. Марат в это время должен был, играя,
зайти за клуб и там самостоятельно сориентироваться, как подняться в будку
(она была с противоположной стороны от главного входа). Я видеть его не
могла и очень волновалась, изредка поглядывая на дорогу, на часового,
который медленно ходил от дверей здания до угла и обратно. Было
воскресенье, немцы чувствовали себя вольготно, многие ушли по деревням на
добычу. Яблок у меня оставалась почти половина. Покупатели не церемонясь
лезли в мой мешок и не все отдавали деньги. Я тогда садилась на мешок и
кричала по-русски, показывая пальцем на вора: "Эй, ты, не уплатил, а яблоки
взял! Давай пфенниги!" Немцы были настроены благодушно,
гоготали.
Марат появился из-за угла клуба. По-прежнему, как мячи, подбрасывая перед собой два яблока, глянул в мешок и
сказал:
- Дай деньги, я
посчитаю.
Я ему отдала мелочь. Это был условный
знак: "Все в порядке".
В это время к нам подошел
какой-то младший офицер, уже пожилой, важный, с выдвинутой вперед, как у
щуки, челюстью, отобрал мешок с остатками яблок и дал мне пинка
коленкой.
Я нарочно стала просить мешок, ныть,
тереть кулаками глаза: немец должен был понять из моих слов, что меня будут
ругать дома.
Офицер оскалил удивительно мелкие
острые зубы (сходство его со щукой стало еще более разительным) и заорал
по-немецки что-то, из чего я поняла, что надо немедленно убираться.
Оглянулась: Марат, тихонько считая деньги, шел к дороге. Испуганно
втянув голову в плечи, поплелась за ним и я. Солдаты были довольны моим
видом, кричали и смеялись мне вслед, говорили всякие
скабрезности.
Я догнала Марата уже при выходе из
городка.
- Ну что? Взял?
-
А они и не караулят будку. Взял!
В общем, мы
решили, что не так уж сложно и опасно было украсть кусочек линолеума: он
был спрятан теперь у Марата под рубахой.
Нам с
Маратом ничего не говорили, но, как я позже узнала, в лесу изготовлялись
какие-то фиктивные документы для "приписников" и ребят, которые
бывали у нас дома. Для этого и нужен был линолеум - отличный материал
для граверных дел.
В один из последних дней
сентября необходимо было переправить в лес, для партизан, оружие и
катушку с телефонным проводом, припрятанные Колей Комаловым и
Маратом на старом кладбище.
Я и Комалов
дожидались в лесу, а Марат и Дядиченко переносили к нам это оружие.
Потом нас с Маратом отправили домой, а Саша и Коля остались. Ночью
пришли партизаны и всё забрали у них. Утаили мы с Маратом только один
браунинг из авоськи тети Дуси...
В эти же дни мама
посылала меня в Борисовщину, к "портному". Я относила ему несколько раз
челноки от швейной машины и приносила от него такие же. Что было в них
и было ли - не имею понятия до сих пор. А может быть, челноки служили
какими-то условными знаками. (Дело в том, что этот "портной" позднее был
командиром отряда "Боевой". Я видела его там, но не разговаривала ни разу.
Узнал ли он меня, не знаю. Фамилия его
Гриценевич.)
АРЕСТ
Бывают такие дни, когда в память навечно врезается все, даже
незначительное и малоприметное. Может быть, это потом уже так
"срабатывает" память, и лишь потому, что именно в эти дни происходит
очень важное, что полностью переворачивает всю твою
жизнь.
Прошли годы, десятилетия, но я почти по
часам и даже минутам могу восстановить события этого
дня.
...Мать велела мне постирать белье. Я топлю
русскую печку, грею воду для стирки. Время под вечер. Мама и Домарев
собираются и уходят. Я уже догадываюсь куда: от дома, по мелкому
кустарнику - к кладбищу, а там переберутся через шоссейную дорогу - в
густой старый ельник, где кто-то их
встретит...
Обычно мама перед уходом говорила: "Я
скоро вернусь, это очень важное дело. Ты, Ада, сама тут хозяйничай!" Мы с
Маратом никогда ни о чем ее не расспрашивали. Понимали: мама скажет то,
что сочтет нужным.
И все же чувствовалось, что в
доме у нас происходит что-то очень важное, серьезное. Маленькая, вся
покосившаяся от старости хатка бабушки Зоей стала чем-то значительным
для всего Станькова, и не только Станькова.
Прошло
некоторое время, прежде чем я узнала подробности, тщательно скрываемые
матерью от нас с Маратом.
Я задаю себе вопрос:
почему мама так поступала? Оберегала нас, детей, от опасности? Но разве не
опасно было расклеивать сводки Совинформбюро на самых видных местах?
А ведь мама сама поручала это нам! Разве не опасно было выкрасть кусок
линолеума или следить за тем, сколько пушек привезли в гарнизон и
сколько машин с солдатами туда приехало? А собирать и прятать оружие?
Нет, видимо ставши подпольщицей, мама, никогда не изучавшая строгих
законов конспирации, чутьем постигала эти
законы.
И еще я спрашиваю себя: откуда у мамы
была такая зрелость, такое понимание происходящего? Когда все привычное, казалось - незыблемое, рушилось, когда многие были беспомощны и
растерянны, она хорошо понимала, как надо действовать, что делать. В ней
была такая уверенность, воля, что все подчинялись ей беспрекословно. Все,
включая Домарева, Комалова, Дядиченко и Михаила Бондаревича. Как уж
между ними распределялись обязанности, сейчас сказать трудно. Она
прислушивалась к их советам, и все же последнее слово, как рассказывает
Михаил Бондаревич, оставалось за ней.
Тяга в печи
была хорошей, вода грелась быстро, настроение у меня было бодрое. Я, по
обыкновению, громко напевала и не слышала, как вбежал
Марат.
- Адка, что ты поешь?!-закричал он, тяжело
дыша.- Там приехали фашисты. Я еще таких не видел. У них черная
форма и на рукавах черепа. Они по нашей улице идут, ко я их обогнал. Это они
к нам идут, Адка!
- Да откуда ты знаешь, что к
нам?
- К нам,- упрямо повторял
Марат.
Пока мы препирались, фашисты уже вошли во
двор. Они действительно были в зловеще черной форме. Тут же вспомнив, что
на шкафу лежат печати, сделанные из линолеума, я бросилась туда, затолкнула
по два плоских кружочка в туфли. И снова обула их. Туфли эти были старые и
чуть велики мне. Мы с мамой любили носить их вместо
шлепанцев.
Не знаю, сколько ушло времени на эту
процедуру, очевидно, считанные секунды. В дверях появился высокий сухощавый офицер со стеком в руке. За его спиной выросли двое солдат с
автоматами. Если бы он (кажется, это был капитан) держал в руке не стек, а
пистолет, я думаю, мне не было бы так страшно. Он ударял себя стеком по
голенищу сапога и смотрел на меня белесыми, какими-то пустыми глазами. Губы его улыбались, а вместо глаз была жуткая пустота, словно туда попал
туман.
Во дворе остались еще несколько солдат и
полицаев. Уже позднее я узнала, что все они - и офицер, и солдаты, и полицаи- были палачами из минского гестапо.
Марат
сразу же попытался выскользнуть за дверь, но его грубо схватили и бросили на
лавку.
Офицер довольно свободно говорил по-русски,
и его диалог со мной я помню почти со стенографической
точностью.
Он. Здесь живет Анна Александровна
Казей?
Я: Здесь.
Он: Кто
будешь ты, и как тебя зовут?
Я: Зовут меня Адой, я
дочь Анны Александровны Казей.
Он: Очень
хорошо. Кого скрываете вы в доме?
Я: Мы никого не
скрываем, а живем своей семьей.
Он: Перечисли
семью.
Я: Отец, мать, я и
брат.
Он: Тебе бесполезно скрывать, мы все знаем.
Скажи, кто приходит в ваш дом по ночам?
Я: К нам
ходит только соседка, но она бывает днем. А ночью мы все
спим.
Он: Ты хорошо притворяешься, но мы сумеем
заставить тебя говорить правду.
Я: Господин, пан
капитан, я говорю правду. У нас не бывает гостей, мы никого не приглашаем.
Да и угощать теперь нечем...
Он: Угощать?.. Пока я
буду угощать тебя...
И в этот момент я ощутила
острый, обжигающий удар по лицу, как будто кто-то приложил к нему
раскаленное железо и с силой отдернул. Раньше, когда я слышала от бабы
Марили, что у нее "в глазах побежали желтые и черные круги", мне было
смешно. Но теперь у меня тоже потемнело в глазах и побежали разводами
черные и желтые круги, кольцами и пятнами. Я отлетела в угол и ударилась
головой о стену, но тут же попыталась подняться. Офицер снова ударил меня,
на этот раз сапогом в бедро.
Никогда в жизни я еще не
испытывала такой ненависти, как в эти
минуты.
Улыбающаяся маска вместо лица (а офицер
продолжал улыбаться, и выражение его лица не изменялось ни на секунду)
вызывала во мне такое омерзение и бешенство, что я готова была броситься на
него с кулаками, кусать и рвать ногтями эту холеную харю с погасшими
глазами, словно затянутыми белесой пеленой. Мне не было ни страшно, ни
больно, меня только захлестывала горячая волна ненависти и чувство
собственного бессилия. По лицу и шее текла
кровь.
Невозможно объяснить - почему, но я в упор
глядела на офицера так пристально, как будто старалась прочитать что- то на
его лице. Когда я встала, гестаповец больше не бил меня. Как будто бы ничего
не произошло, как будто мое лицо и сарафан не были залиты кровью, офицер
продолжал задавать вопросы:
Он: Сколько тебе
лет?
Я: Пятнадцать.
Он: Где
сейчас твоя мать?
Я: Пошла на
поле.
Он: Сколько лет
матери?
Я: Тридцать
шесть.
Он: Отцу?
Я:
Сорок.
Он: Скоро
вернутся?
Я: Не знаю. Они недавно
ушли.
Он: Мы подождем. А пока... пока мы
посмотрим.
Он обернулся к солдатам, что-то резко
сказал им по-немецки, а мне и Марату велел сесть на скамейку. Начался обыск.
Марат с жалостью посмотрел на меня и прошептал:
-
Адок, вытри кровь, этот гад, кажется, вышиб тебе
глаз.
- Ничего, маленький, глаз
цел.
Офицер посмотрел на нас внимательно и как
будто даже ласково сказал:
- Вы не будете
шептаться. Вы не будете говорить ни одного слова.
И
мы не говорили. Мы только смотрели друг на друга. Бедный Маратик! Я как-то
за все это время ни разу не посмотрела в его сторону. А он видел, как меня бил
офицер, и ничем не мог помочь мне. Разница в возрасте была у нас четыре
года, я чувствовала себя значительно старше брата. Он сидел непривычно
бледный, с такими сжатыми челюстями, что его и без того худые скулы
выпирали еще больше. Что он думал в эти минуты, "наш мужчина", как звала
его мама?
Солдаты ворочали мебель, рвали обои,
перетряхивали постели, простукивали полы, заглядывали в каждый угол, в
каждую щелочку, облазили подполье, исследовали горшки и кувшины, даже
золу в печке: ничего не нашли. Связали в простыню мамино белье. Офицер
молча подошел к скамейке, Марата отбросил в сторону, а сам стал обыскивать
меня.
Никогда не забуду этого унижения, этих рук,
шарящих по телу. Мне было бы легче, если бы он бил меня, боль спасала,
давала силы и ненависть, а тогда я чувствовала себя не только беспомощной,
но оплеванной с ног до головы. Лицо гестаповца придвинулось теперь совсем
близко, рот его с острыми белыми зубами был приоткрыт, а глаза вблизи казались безумными. На мне был всегдашний сарафанчик (от первого тепла до
самых заморозков), и гестаповец разорвал его от ворота донизу. В эту минуту я
окаменела. Я стояла голая и, когда к моим ногам упал сарафанчик, не пошевелилась, боясь, как бы гестаповец не заставил меня снять туфли. Солдат
вывернул у Марата карманы брючек и пиджачка, нашел там гвозди, веревочку,
пять патронов к браунингу. Он ударил Марата по голове и снова отбросил к
скамейке.
- Сядь!- приказал мне офицер и вытащил
из-за голенища сапога свой стек.
Я подобрала остатки
своего сарафана и кое-как прикрылась ими.
Во дворе
солдаты стояли без дела и разговаривали. Все, что происходило здесь в доме,
казалось, нисколько не занимало их. Странно, что обыск шел только в доме. Но
это промелькнуло в моем сознании просто так. Я думала и тревожилась совсем
о другом. И когда вдруг услышала голос мамы, какая-то сила подбросила меня
к окну.
- Где дети?- громко спросила
мама.
- Мы здесь!- крикнула
я.
Офицер и солдаты быстро вышли во
двор.
Я увидела лицо мамы в профиль. Она уже шла к
калитке со двора, за ней солдат и полицай, а потом Домарев и за ним
остальные гестаповцы и полицаи. Я подбежала к окошку, выходящему на
улицу, и еще раз увидела маму. Коса ее упала из-под головного тонкого
шарфика на спину, старенькая жакетка цвета хаки, голубой в цветочках
домашний халат и старые сапожки на босу ногу, которые она надевала только
в лес. Вот и все. Такой я запомнила маму в последний раз. Такой она навсегда
уходила из нашего дома. Но разве я знала, что это навсегда? Я еще надеялась
на какое-то чудо. Ничего у нас в доме не нашли. Может быть, и у мамы и
Домарева тоже ничего не было.
Вернулся полицай,
спросил, где документы. Мамина сумочка со всеми документами висела на
стене; удивительно, но во время обыска ее не заметили. Я сняла сумочку и отдала ее со всем содержимым. Там же был мой аттестат об окончании
восьмилетки.
Не помню уже, когда исчез из дому
Марат... Я не могла двигаться - руки и ноги словно ватные, голова и бедро
болят, во рту все разбухло: и язык, и десны. Я дотащилась до кровати и упала
на нее в полузабытьи. Меня окружали чудовища, сверху нависло что-то
огромное, необъятное, необъяснимое, как когда-то в детских снах, после
которых я про сыпалась в слезах. Сколько так прошло времени, не могла
понять.
Проснулась, когда в окошко постучал наш
бывший колхозный бригадир Алексей Казей и сказал, что меня требуют в
сельсовет гестаповцы.
Я огляделась: в доме все
перевернуто вверх дном. На столе лежало несколько свернутых из "моршанки"
папирос. У меня мелькнула вполне осознанная мысль, что ночи уже
прохладные и маме будет холодно, нужно захватить что-то теплое и еще
махорку: маме и Домареву пригодится. Я взяла пачку махорки, курительную
бумагу и старенький пуховый платок из шкафа, уже с дырками, который отец
привез из Кисловодска еще в 30-х годах.
Как была,
почти нагая, зашпилив сарафан тремя булавками, пошла к сельсовету. Издали
увидела, что у ворот стоит крытая черная машина, а чуть поодаль еще одна -
грузовая.
Смотрю - за одним домом Саша
Дядиченко, Миша Бондаревич, Замогильный, Привалов и еще несколько таких
же "приписников", которые бывали у нас в
доме.
Привалов быстро шепчет мне, что они выйдут
на шоссе, чтобы подкараулить эти машины, и, если удастся, освободят маму и
Домарева. Не удастся освободить - забросают машину гранатами, пусть
гибнут и фашисты! Привалов успел сказать, что маму и Домарева уже
допрашивали, и сейчас они в "черном вороне". Хотя я впервые слышала такое
название, но поняла, что оно относится к крытой машине.
Я вошла в бывшее помещение сельсовета. За
столом сидел знакомый офицер. Увидев у меня в руке платок и махорку,
выслушав мою просьбу передать это маме, гестаповец сказал все с той же
неизменной улыбкой:
- Хорошо. Передадим. Но
скажи мне: ты отдохнула? Подумала? Захочешь отвечать на
вопросы?
- Да.
Он: Очень
хорошо. Тогда скажи, кто такой Домарев Иван Андреевич? Ведь это он запутал
твою мать в такие дела, за которые великая Германия не
прощает.
Я: Это мой отец.
Он:
Где же он был до войны?
Я: Отбывал срок заключения
в Витебске, а после перевели под Брест. Там из тюрьмы его освободили ваши
войска.
(Все это я хорошо усвоила от мамы и Ивана
Андреевича.)
Он: И когда же он у вас
появился?
Я: В первые дни войны, пришел
пешком.
Он: Почему он
хромает?
Я: По пути из Бреста сильно натер ногу,
была рана, после - экзема.
Он: Ты все, оказывается,
знаешь. А кто лечил его?
Я: Сама мама. Травами,
припарками.
Он: С кем он водил дружбу? Кто к нему
заходил?
Я: Никто. Мы живем бедно, а после того как
отец сидел в тюрьме, все нас сторонились.
Он: А куда
он отлучался вместе с матерью, как и сегодня?
Я:
Сегодня - на поле. А вообще - иногда в лес, за грибами, за
хворостом...
Он: Ну хватит! А это кто? Тоже не
знаешь?
Передо мной лежала фотография Коли
Комалова в офицерской форме.
- Я не знаю этого
человека.
- Погляди назад!- скомандовал мне
гестаповец. Оглянулась: сзади стоял Коля Комалов со связанными назад
руками, за ним полицаи.
Я молчала, держалась за стол,
чтобы не упасть.
-
Узнаешь?
- Нет.
-
Хорошо, мы тебе напомним.-С этими словами он неторопливо вышел из-за
стола и начал хлестать меня своим стеком.
Когда я
падала, он меня бил ногами, когда я поднималась- снова град ударов по лицу,
плечам, голове.
Очнулась на траве у крыльца
сельсовета. Было очень тихо. Надо мной стоял Марат. Я шевельнулась, поняла,
что жива, кое-как встала на ноги. Черная крытая машина стояла на прежнем
месте. Даже не понимая, что делаю, быстро пошла к ней и стала стучать в
дверцу. Подоспевший солдат отшвырнул меня от машины, а я не переставала
кричать:
- Мама, мы здесь! Мама, мы
здесь!
И вдруг в ответ услышала такой родной,
тревожный голос:
- Адочка! Береги Марата!
Берегите друг друга. Я вернусь к вам. Обязательно
вернусь!
Ко мне подбежал Марат, схватил за руку и
потащил к забору.
Через какое-то время мы увидели,
как из сельсовета вышел офицер, а за ним солдаты и полицаи вывели Комалова
и втолкнули в машину. Офицер сел в кабину черной машины, все остальные -
в кузов грузовой. Машины тронулись в направлении шоссе на Минск. Долго
еще, пока они не скрылись, мы провожали их глазами и долго слышали шум
моторов.
В другой половине помещения сельсовета, за
перегородкой, жила жена бывшего председателя
Жуковская.
Подробностей она не знает, но каждый
раз, вспоминая этот день, приговаривает:
- Я же все
слышала из своей комнаты через перегородку... Слышала, как их допрашивали
да пытали. Не дай-то бог!.. Бедная Аня...
Позднее я
пыталась подробнее узнать о судьбе мамы и двух ее товарищей, но узнала
очень мало. Арестовали их 5 октября, а повесили 26 октября 1941 года, когда в
Минске были совершены первые казни советских людей. Один из очевидцев
описал одежду повешенных: жакет цвета хаки, ноги в сапогах и длинная
девичья коса, на конце заплетенная красной ленточкой... Один мужчина с
рыжими кудрями, весь в веснушках, а второй - совсем еще мальчик по виду,
кажется, черноволосый, круглолицый. Конечно, по всем приметам, это были
мама, Иван Андреевич Домарев и Коля
Комалов.
Тогда мы с Маратом ничего этого еще не
знали и тревожно ждали, надеялись.
С неделю я не
могла подняться с постели. Марат, как мог, ухаживал за мной. Никто у нас не
появлялся.
Проходили дни за днями, мама не
возвращалась. Почти все время мы сидели у окна и ждали: вот отворится
калитка и своей стремительной, летящей походкой пройдет по двору наша
мама.
Но доносились тревожные слухи, и надежд на
спасение становилось все меньше.
Даже баба Мариля
уже знала, что ее дочь и Домарева схватили на новом кладбище, когда они
возвращались из лесу. В корзинке у дочери гестаповцы обнаружили свежую
сводку Совинформбюро (значит, слушали в лесу
радио).
Обвиняя во всем свою дочь, баба Мариля
говорила, что "ей не сиделось спокойно", что она "собирала у себя парней из
военных чинить немцам беду", что она "родных детей не жалела, вот и
допрыгалась". Тут же заодно баба Мариля проклинала Опорожа, и Дубовика, и
Юрана, и немцев. Меня она вообще не жаловала. Марата по-своему любила, но
не упускала случая сказать, что характер у него материнский и потому головы
ему не сносить.
И тогда, и теперь, через много-много
лет, мама остается для меня образцом во всем. Я никогда, кроме одного случая,
не писала стихов, но единственное свое стихотворение посвятила маме, когда
узнала о ее казни. Сейчас я понимаю, конечно, что оно далеко от поэзии, и
поэтому не решаюсь даже привести хоть единую строчку. Скажу только, что
это стихотворение, несмотря на все, живет во мне постоянно, и в нем встает
мама, гордо и мужественно выдержавшая пытки и допросы и не дрогнувшая в
свой последний час. В нем я слышу ее последний возглас, обращенный ко мне
и Марату: "Я вернусь к вам, обязательно
вернусь!"
Она не смогла выполнить своего обещания.
Она не вернулась, но все равно возвращается ко мне постоянно все эти долгие
годы, месяцы и дни. Это не мистика - это боль и память сердца. Да, это для
меня только доказательство продолжения всего доброго и светлого на
земле.
И чем дальше отодвигаются те горестно-трагические события, тем ближе и дороже становится мне мама, доступнее
внутренний мир, понятнее ее жизнь и смерть, священнее и трогательнее память
о ней.
ОДНИ
Туго
пришлось нам с Маратом. Так туго, что и передать трудно. Домик бабушки Зоей
при маме казался нам раем, теперь он был неуютен, неприветлив, всеми забыт.
Наступили холода, дров не было, есть нечего, одежды
никакой.
Сначала мы сожгли забор, потом стали
разбирать сарай, а после ездили с санками в лес, рубили сухостой и кое-как
отапливались.
Оставались у нас еще кое-какие старые
тряпки, и мы на них выменивали продукты. Ходили в Ляховичи к дяде Саше, и
он делился, чем мог, из своих скудных запасов.
В конце
зимы 42-го года нас стали навещать Дядиченко и Привалов. Они уже были в
лесу, в партизанской группе, и потому приходили к нам только ночью,
вооруженные. Каким-то чудом, еще с папиных времен, у нас сохранилась
бумага, чистые тетради (папа очень любил бумагу, тетради, ручки, карандаши и
не жалел на все это денег), и мы охотно отдавали все это
партизанам.
Как-то раз Дядиченко и Привалов подали
мне мысль попробовать устроиться на работу в имение, где теперь располагался
гарнизон. Партизанской группе нужны были сведения о численности солдат и
офицеров, о передвижениях войск. В тот же день на улице меня встретила баба
Мариля и, как всегда, стала ругать и отчитывать. Опять та же песня: "Ты что, по
материнской дорожке катишься?" Но было в ее словах и что-то новое,
настораживающее: "Доигралась ты, доигралась, девонька. За твоим домом во
все глаза следят. Вздернут тебя на веревочку - и оглянуться не успеешь.
Мальчишку бы пожалела, если самой не страшно!"
Что
она знала и откуда, понятия не имею. А может, просто запугивала меня. На
всякий случай, когда в следующий раз пришли ребята из лесу, я им рассказала о
встрече с бабой Марилей.
Они, не задерживаясь, ушли,
оставив нам с Маратом кусок вареного мяса (а мы уже давным-давно его и в
глаза не видели, жили впроголодь, питаясь бульбой). С тех пор друзья надолго
исчезли.
За это время я сумела устроиться на работу в
гарнизон. Меня взяли горничной к гауптману. Я должна была делать уборку в
его спальне и гостиной, стирать белье, приносить ему из столовой еду. Это было
пехотное подразделение. Потом сюда же прибыла легкая артиллерия (калибр
пушек точно не помню). Я их свободно могла подсчитать, да и солдат тоже. Я
знала расположение всех построек и даже подземные ходы. Мне выдали пропуск
в гарнизон с 9 утра до 18 часов. Мы с Маратом были, что называется, полны
сведениями, но из лесу к нам никто не приходил. А через две недели меня
выгнали из гарнизона по доносу Опорожа.
Я
столкнулась с ним в дверях столовой.
- Ты что здесь
делаешь?- загораживая мне дорогу, спросил он.
-
Работаю.
- Работаешь? Где же это ты работаешь?
- Горничной у господина
гауптмана.
Он стал хохотать.
-
Ах, горничной! Вот оно что! - И вдруг закричал:- Брысь! Я тебе покажу
горничную!
Не дожидаясь худшего, я убежала на
квартиру гауптмана. Но через несколько минут явился домой он сам, мой тучный хозяин. Путая русские и немецкие слова, ругаясь, он тут же выставил меня,
отобрав пропуск.
Так закончилась моя служба у
гауптмана.
Пришла ранняя дружная весна. Мы жили без
мамы уже полгода. Трудно даже представить себе, как мы перебивались и
изворачивались. Весной начали собирать на полях не выкопанную с прошлого
года бульбу и варили ее в "мундире". Фашисты в это время начали сгонять
молодежь с окрестных сел на торфоразработки.
Между
деревнями Кукшевичи и Зосино по руслу реки Уса раскинулись большие
торфяные болота. Там всегда добывали торф, да и сейчас существует этот
промысел.
Было объявлено, что все, кому минуло 16 лет
(а мне еще 23 декабря исполнилось 16), обязаны работать на торфе или ехать в
Германию.
Некоторые откупались, других просто
прятали родственники, у меня таких возможностей не
было.
Не оставалось ничего другого, как пойти на
торф.
Марат жил со мной, но голод заставлял его бегать
и к бабе Мариле, и к теткам.
С конца апреля и до конца
августа я вставала в четыре часа утра, к пяти уже была на болоте - и дотемна.
Часов там никто не считал. Во всяком случае, наши надсмотрщики. Зато мы
время хорошо чувствовали своим горбом.
Летом у нас
очень поздно темнеет, так что день длился по 15-16 часов. С самого раннего
утра до позднего вечера по деревянному настилу я откатывала груженные
мокрыми кирпичами торфа вагончики. Ни минуты отдыха. Парень где-то на дне
карьера, прямо в воде, режет торф и выбрасывает мне наверх. Я должна схватить
каждую кирпичину, уложить на вагонетку, поворачиваться, снова хватать -
укладывать, хватать - укладывать. Когда вагонетка полна, я везу ее к месту
сушки, метров за восемьсот, а то и за километр.
Там я
снимаю и аккуратно укладываю кирпичины "в клетку" и возвращаюсь к карьеру.
За это время мой напарник уже успел нарезать мне в запас столько торфа, что
погрузка идет без минуты промедления: хватаю и укладываю, хватаю и
укладываю. А взад-вперед ходят с плетками надзиратели - попробуй
промедлить или не так укладывать кирпичи! Один раз у моей соседки
обрушилась клетка. На бедную девушку набросились три полицая и били ее так
яростно, так безжалостно, что даже немец, который был здесь за главного,
остановил их. Я дрожала при одной мысли, что и меня может постигнуть такая
участь. А сил для этой каторжной работы было очень мало. Да и откуда им
взяться? Из дому на обед мне нечего было взять, я постоянно голодала. Марат
иногда приносил мне от бабы Марили и теток то кусочек хлеба, то картофелину.
Я тут же все это съедала.
Когда начинался перерыв на
обед (единственный час за весь длинный день), я испытывала такие муки, что
уходила подальше к реке, чтобы не видеть, как едят
другие.
Я садилась на берегу реки, смотрела в воду,
меня клонило ко сну. Иногда засыпала, этим, наверно, и спасалась. Как-то раз
моя одноклассница из деревни Кукшевичи, Иринка Лобач, разбудила меня и
опросила:
- Ты почему не
обедаешь?
- А у меня ничего
нет.
- Дура я, дура, - ругала себя Иринка,-как это я
заметила, что ты все время уходишь одна. Вот у меня остался кусочек мяса и
хлеб. Возьми съешь.
С того дня Иринка стала
подкармливать меня, и я вечно ей благодарна за ее доброту и отзывчивость. В
такое время поделиться последним куском хлеба мог только настоящий
ДРУГ.
И сейчас, спустя почти тридцать лет, я говорю
тебе, милая моя школьная подружка Иринка Лобач, с которой я разделила
четыре месяца самого каторжного, черного рабства на торфе: "Спасибо тебе за
все. Этих дней не забуду никогда. И если я смогла выдержать, не упасть, не
погибнуть, то только благодаря тебе".
И еще в те дни
появилась у меня "палочка-выручалочка"- тоже одноклассница, Нина. Вечером
я спешила в свою деревню и часто ужинала у нее в семье "чем бог послал", как
говорила ее мать. У них, по крайней мере, были молоко и
картофель.
На торфе нам обещали платить за работу, но
получили мы один раз по пять килограммов гречневой муки, по бутылке
постного масла да еще пол-литра патоки. Это все - за четыре
месяца!
В августе баба Мариля, которая считала своим
долгом не оставлять меня своими заботами, стала настойчиво сватать меня за
Костю Кокальского, пожалуй, самого последнего дурака и прохвоста в
Станькове. Зато был он красивый и не считался с тем, что у меня "такая мать".
(Этого "женишка" потом за предательство расстреляли партизаны нашего отряда.)
Атаковала меня не только баба Мариля, но и
тетки. Выйти замуж - значит не поехать в Германию. Семейных в то время еще
не угоняли.
Что делать? Ходить на торф? В этом случае
тоже не отправят в Германию, и замуж можно не
выходить.
Я все еще ждала маму, по ночам сидела на
пороге своего "замка", и мне мерещилось несбыточное. На рассвете, не
выспавшись, надо снова идти на болото... А ходить туда уже не могу, нет сил. А
что зимой делать, когда торф добывать нельзя? Один только я видела выход: к
партизанам! А их и след простыл. Ни Дядиченко, ни Привалов больше не появлялись.
Я забыла сказать, что еще в апреле или мае
гитлеровские каратели блокировали станьковский лес с целью уничтожить
партизанский отряд. Думаю, что это был отряд, в который после ареста мамы и
Домарева ушли Дядиченко и Привалов.
Хорошо помню,
как гитлеровцы ехали к лесу с пушками, шли подразделения пехоты. Целый день
гремела стрельба где-то на кладках или в горелом
лесу.
Я была почему-то дома - видимо, дали
выходной.
Мы с Маратом видели, как санитарная
машина много раз проезжала к лесу и обратно мимо нашего
дома.
Через день я шла на торф и заметила в парке, у
самого замка, целое новое кладбище с березовыми крестами и немецкими
касками на них.
После этого боя партизаны ушли из
станьковского леса, вместе с ними исчезли мои друзья Дядиченко и
Привалов.
У каждого человека наступает время, когда
он должен принимать самостоятельные решения. Видно, наступила такая пора и
у меня.
В один из последних дней августа я больше не
пошла на болото. Меня охватило такое безразличие и равнодушие, что я даже не
вполне отдавала себе отчет: что же дальше?
Пока
сходила к дяде Саше в Ляховичи, жила там дня два. А потом просто уходила на
целый день в лес, в поле, на кладбище. Я хорошо знала, что меня теперь начнут
разыскивать и, если поймают, Германии мне не
миновать.
Но кто первым сумел меня подкараулить -
так это баба Мариля. И посыпались на мою голову упреки,
ругань.
И опять попреки
мамой.
- Сама гибели ищешь, как мать! От счастья
своего бежишь, такого тебе жениха нашла, а ты морду
воротишь.
Я ответила, что замуж не пойду и в
Германию тоже не поеду. Лучше умру, а этому не
бывать.
Она смотрела на меня злобно и
беспомощно.
- Вся в мать, окаянная, вся в мать,-
приговаривала она со слезами.
Что уж делалось в ее
сложной душе - судить не берусь, но она вдруг предложила мне уехать в
Минск к Лене, моей двоюродной сестре по отцу. И я тут же не раздумывая согласилась. Пока это все-таки был лучший выход. Условились, что Марата баба
возьмет к себе.
На следующий день с восходом солнца я
встала, попрощалась с Маратом и ушла пешком в
Минск.
Лена встретила меня радушно, приласкала и так
напомнила маму, что я тут же разревелась.
Недели две я
прожила, ни о чем не думая, помогала, чем могла, Лене по дому, но вскоре
поняла, что нужно самой что-то зарабатывать. В семье двое детей, муж Лены
прячется от полиции, есть нечего - голод. За короткое время я повидала в
Минске и облавы, и развалины, и бесконечно марширующих гитлеровцев,
наслышалась о расстрелах, концлагерях в самом городе и его окрестностях. И об
угонах в Германию, и о преследовании евреев - от мала до велика. (У нас в
Станькове была одна-единственная еврейка - моя учительница Александра
Ильинична. Она тоже пряталась до тех пор, пока ее не выдал Опорож. Только
позднее я узнала, что Александру Ильиничну расстреляли
полицаи.)
В это время с Украины в Станьково добралась
моя сестра Лёля, уже успевшая потерять и ребенка и мужа. Шел ей тогда всего
двадцатый год. Бабка Мариля и ее быстро "откомандировала" в
Минск.
Я сразу приободрилась: вместе с Лелей мы
устроились в столовую какого-то железнодорожного учреждения, где работали
только немцы.
Очень скоро я научилась здесь воровать
хлеб, крупу, даже понемногу мясо и гордилась, что приношу этим облегчение
семье
Лены.
НАХОЖУ
"ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ"
Лёля
только посмеивалась надо мной: она считала, что таких смельчаков, которые
активно работают в антифашистском подполье, в то время вообще не могло
существовать. Есть где-то фронт. И там идет война. А здесь расправа, ужас,
позор, голод и все другие прелести оккупации. На Украине она навидалась
такого, что удивить ее, казалось, было нельзя.
Сама я
тоже отчаялась встретить нужных мне людей, и постепенно у меня уже созревал
план вернуться в Станьково и во что бы то ни стало разыскать партизан. Теперь
я уже удивлялась своей прежней медлительности и недогадливости: ведь
партизаны не могли вот так без следа исчезнуть. Возможно, они были совсем
недалеко от Станькова, только в другом месте. И там мои ребята - Дядиченко,
Привалов...
О том, что в нашем родном городе
действуют партизаны, мы узнали от самих
немцев.
Некоторые из железнодорожников ездили на
облаву партизан вместе с солдатами. Один инженер (как раз из комнаты,
которую я убирала по совместительству со своими обязанностями официантки)
был ранен. От его товарища - молодого инженера Вальтера, очень доброго
немца, который был расположен к нам с Лелей, - я узнала, что того "как зайца"
подстрелили партизаны Негорелого. А ведь это в нескольких километрах от
Станькова! Может быть, наши партизаны действовали
там?
В голове моей рождались бешеные
планы...
На решительный шаг подтолкнул меня приезд
тети Веры. Она пожаловала в Минск на собственной лошади (знай наших!),
чтобы выменять на толкучке картофель на мыло и
соль.
Я тут же придумала предлог для поездки в
Станьково: мне не во что переодеться, а там остались два моих платья. Эта
версия была выдана и Лёле. Я официально отпросилась у начальства на три-четыре дня.
Лёля и по сей день в обиде на меня, что я
бросила ее в Минске, не поделилась с ней своими планами. Третьего декабря к
вечеру я уже была в Станькове. Домой идти было незачем - там пустота и
холод. Если к моему отъезду в Минск там что и оставалось, то тетки и баба
перенесли все к себе.
Я зашла к бабе, и она, против
ожидания, мне очень обрадовалась. Сколько раз за войну она удивляла меня,
баба Мариля! В ней опять проглянуло человеческое,
доброе.
В доме она осталась одна. А где Марат? Я так
спешила к нему, так истосковалась, так хотела его
видеть!
Оказывается, сын бабы, Николай (мой дядя, но
так как по возрасту он был ненамного старше меня, то я звала его просто
Николаем) ушел в партизаны. А за ним увязался и
Марат.
Вот оно, что так "переделало" бабу, смягчило
ее! Я понемногу начинала понимать это превращение бабы Марили. Она сказала
мне, что завтра Николай и Марат обещали приехать помыться в
баньке.
С нетерпением я стала дожидаться следующей
ночи. Казалось, я уже у цели. Если в партизаны приняли моего двенадцатилетнего братишку, то меня-то, взрослую, на целых четыре года старше,
должны принять и подавно.
В назначенную ночь они
приехали.
Лошадь привязали где-то у сарая, поближе к
огородам, и потом уже зашли в хату. Баба вовсю топила печь, грела с запасом
воду.
Марат увидел меня, обрадовался - я это поняла
по его лукавым глазам и такой милой улыбке,- но подошел ко мне степенно, не
торопясь, и по-взрослому подал руку.
Не знаю, не могу
объяснить, что было в нем такое надежное, вдумчивое, что заставляло забывать
о его малом возрасте.
Мое сердце радостно екнуло при
виде его. Тоненький, стройный, одет аккуратно: брюки, сапоги, курточка-
стеганка, шапка-ушанка с красной нашивкой. На широком армейском ремне с
медной пряжкой - пистолет (дождался-таки тети Дусин!), две
гранаты.
Так он и стоит у меня перед глазами всю
жизнь, таким и остался в моей памяти. Он еще больше стал походить на отца, и
баба Мариля, глядя на него, всплакнула.
Коля и Марат
вымылись, переменили белье, легли немного отдохнуть, а мы с бабой по очереди
караулили на улице: немцы по-прежнему стояли гарнизоном на той стороне
пруда.
На рассвете, зайдя в хату, я заметила, что Марат
проснулся.
Мне очень хотелось побыстрее расспросить
его обо всем, но он был немногословен.
- Где вы
живете? В каком лесу? - допытывалась я. Марат держался невозмутимо и
солидно.
- Какой же это партизан ответит, где он
живет? Везде!
- А у вас что, шалаши или хаты?
Марат вдруг по-прежнему
рассмеялся:
- А ты приди и
посмотри.
- Маратик,- заискивающе спросила я,- а
партизан у вас много?
- Ну, Адок!..- Он развел
руками, как это делал отец.- Ты просто меня удивляешь. Откуда мне знать,
сколько. Во-первых, я рядовой, а во-вторых - это военная
тайна.
Признаться, я завидовала тогда
Марату.
Вот он уже полноправный партизан, ему
портной по приказу командира отряда сшил специальное обмундирование, у
него есть личное оружие и гранаты, он уже ходит в разведку и даже получил две
благодарности в приказе по отряду.
Я стала уговаривать
Николая, чтобы он сегодня же взял меня в отряд. Он объяснил, что без
разрешения командования не может привести меня в расположение
партизанского отряда. Законы на этот счет заведены очень строгие, и никому их
нарушать не позволено.
- Но ты, Адка, не горюй,-
сказал Николай уверенно,- поговорю в штабе, и завтра кто-нибудь приедет и
заберет тебя.
Под утро они уехали. Я провела их за
огороды и подъехала с ними немного на санях. Ох, как мне не хотелось слезать с
саней! Я стояла, смотрела им вслед, и слезы застилали мне
глаза.
В следующую ночь никто не приехал. Я не
ложилась, не сомкнула глаз, все время торчала у окна, выбегала в сени. Все
ждала, прислушивалась к каждому шороху, к каждому звуку.
Напрасно!
Бабе я ничего не говорила. Она была, как и в
первый день, непривычно ласкова, но шестого числа объявила, что Костик-муж
тети Веры - повезет в Дзержинск сено и подбросит меня до Минского шоссе, а
там я сяду на попутную машину и вернусь в Минск. Она считала, что в Минске
мне будет лучше, раз уж я устроилась на такое место, где и сама от голода спасалась и кое-чем могла помочь семье Лены.
На этот раз
баба наготовила мне в дорогу каких-то мешочков, баночек, сложила все в
корзину и еще кадочку с капустой отдельно
поставила.
Я стала думать, как бы мне увернуться от
бабы Марили и не ехать в Минск, но ничего путного в голову не приходило.
После обеда она подвела меня к запряженной уже
лошади, подала Костику на воз с сеном мой "багаж", поцеловала меня, наверное,
первый раз в жизни, и я пошла рядом с возом.
Я шла,
все замедляя шаг, как идут люди, готовые вернуться. Но возвращаться мне было
некуда. И тут вдруг меня осенило: никуда я не поеду, обману и Костика и бабу, а
все равно к партизанам уйду.
Я вдруг вспомнила дядю
Сашу и тут же решила пробраться к нему в
Ляховичи.
Когда подъехали к военному городку, Костик
обернулся ко мне и крикнул:
- Эй, Ада, полезай на воз!
Поедем на Крысово через мост.
За военным городком
через Усу Мост был сожжен партизанами, и поэтому приходилось объезжать
севернее городка километров на шесть, у деревни Крысово. Здесь же только
пешеходу можно было пройти по узкому мосточку из жердочек. Я сказала
Костику, что пойду через городок, а там по узкоколейке доберусь до Дзержинска
и при въезде в городок, на шоссе, буду его ждать. Я приду туда раньше, идя
напрямик, чем он приедет, делая круг. Костик охотно
согласился.
- Как хочешь,- довольно хмыкнул он и
привычно вытер рукавицей под носом,- не хошь ехать - иди пешком,- и
быстро-быстро зацокал на лошадь, подгоняя ее.
Прошла
я городок, перебралась через Усу. Мороз стоял небольшой, и река посредине
вскрылась.
На перекрестке за городком, у старых ив, я
постояла немного, проводила взглядом воз и повернула обратно. Тут все мне
было знакомо-перезнакомо: прошла городок и у ворот, при входе в парк,
свернула по дороге направо. А там по снежной целине напрямик всего
километра три - и Ляховичи.
Когда я подходила к
деревне, стало смеркаться. В доме у дяди Саши мне очень обрадовались. Вот
ведь добрые люди, приветливые, гостеприимные! Богата все-таки ими наша
земля.
Дядя Саша - брат мужа моей тети Симы,
папиной сестры. Простой, малограмотный человек, от природы очень умный,
чуткий к чужой беде и бесконечно добрый.
За ужином
разговоры пошли, расспросы, воспоминания. Дядя Саша интересовался, где и
как я жила эти последние месяцы.
Я немного рассказала
о своих мытарствах и честно призналась, что сплю и во сне вижу - как бы
попасть к партизанам. И о своем побеге от Костика рассказала, что уж тут было
скрывать.
- Это, пожалуй, для тебя самое правильное
- к партизанам податься,-сказал дядя Саша и переглянулся с женой.- Э, да
что там,- махнул он рукой,- партизаны у нас часто бывают. Вот и сегодня
ночью придут. Ложись, Ада, и спи спокойно: как появится кто-нибудь -
разбужу.
Но разве мог прийти ко мне сон: лежу,
слушаю, жду. Так жду!
Ночью, часов в двенадцать
тихонько постучали в крайнее окошко со двора. Дядя Саша слез с печки, пошел
в сени, открыл наружную дверь, до меня донесся тихий мужской разговор.
Дядя Саша ввел кого-то в хату, на кухню,
отгороженную досками от чистой половины, где меня уложили
спать.
Как ветром меня сорвало с кровати, и я стала
быстро одеваться. Хозяин зажег коптилочку, слышу: о чем-то говорят. Я вышла
на кухню, увидела двоих ребят, совсем еще молоденьких. Мы
познакомились.
Дядя Саша на чистой половине
поставил на стол сало, молоко, хлеб. Ну и, конечно, самогон. После первой
рюмки кто-то из ребят спросил у меня, действительно ли я хочу уйти к
партизанам.
- Ясно, хочу, тут и спрашивать нечего,-
ответила я.
- Ишь ты какая быстрая! - заухмылялся
паренек и пошире уселся на лавке.- А в какой же отряд ты хочешь по-
пасть?
- В тот, где мой брат,-
говорю.
- А кто твой брат?
-
Марат Казей. Он еще маленький, ему всего двенадцать лет. Но он уже разведчик
и две благодарности получил,- расхвасталась я.
-
Знаем такого. Это тот малыш из двадцать пятого отряда. Ну, это рядом с нашим.
Знаем мы твоего Марата хорошо. Боевой парнишка, ничего не
скажешь.
Меня прямо распирало от гордости: вот он
каков, мой Маратик! Его даже в соседнем отряде знают! Я уже в душе ликую:
все в порядке, наконец-то я попаду к партизанам.
Но
ребята быстро умерили мой пыл: не могли они взять меня с собой, так как они
совсем не из этой партизанской бригады, а "из-за железки" (так условно
называли партизан из лесов по ту сторону Дзержинска, за железной дорогой) И
приехали они сюда на связь совсем с другим партизанским отрядом. А
"Двадцать пятый" они, конечно, знают. (Только позднее я расшифровала это
название: отряд имени 25-й годовщины Октября.)
-
Эх,- сказал парень лихо и подмигнул мне заговорщицки - ты духом не падай.
Вот зайдет сейчас третий наш товарищ, он здешний. Может, и сумеет помочь в
твоем деле.
Вскоре действительно зашел еще один
партизан с задорным, как у петушка, чубчиком и с планшетом на боку. Видно - не рядовой. Назвался Сашей.
Саша был комсомольским
организатором отряда "Боевой". Он пообещал взять меня в партизанскую зону,
но с условием, что я подожду до утра, когда они будут возвращаться на базу
после выполнения задания.
- В залог мы здесь соль
оставляем,- улыбнулся Саша,- а соль, сама понимаешь, на дороге теперь не
валяется.
Саша стал подтрунивать над моей обувью: на
мне были те самые мамины разношенные туфли, да в придачу к ним резиновые
ботики. Конечно, все это не подходило к суровому партизанскому быту, но где я
могла взять другую обувь?
- Прежде чем везти тебя в
зону, мы обязаны достать тебе валенки или, на крайний случай, сапоги,-
командирским тоном, солидно и веско сказал Саша.
А
меня все это почему-то не радовало. Опять новая отсрочка. Поманили, как это
уже было, и след их простынет. Так я думала и тут же приняла "оперативное
решение".
Пока ребята ужинали и о чем-то говорили с
дядей Сашей, я потихоньку накинула пальто и платок, всунула туфли в боты и
пошла на улицу. Увидев у забора лошадь, запряженную в обычные крестьянские
сани-розвальни, я обрадовалась: раз сани - места хватит. Вот если бы они были
верхами или пешими, мне бы за ними не увязаться.
Я
уселась в сани, ноги укрыла сеном, руки засунула в рукава пальто (даже варежек
не было) - и жду.
Ребята скоро вышли из дому,
увидели меня в санях и рассмеялись.
- Да иди ты и
спокойно спи,- уговаривал меня Саша,- слово даю, что возьмем
тебя.
- Нет,- закричала я и готова была
разреветься,- никуда я не пойду, хоть силой выбрасывайте из саней! Теперь
куда вы, туда и я.
- Э-эх,- с сердцем сказал Саша,-
ты что думаешь, мне есть время с тобой в бирюльки играть? Мне задание выполнять надо.
- Ну и выполняй, садись, и поехали,-
сказала я, подвигаясь в санях.
Саша снова не выдержал
и засмеялся.
- Горе ты луковое. Что нам с тобой
делать? Если бы ты хоть из пистолета стрелять умела, дал бы я тебе свой, а себе
винтовку оставил.
- А я умею,- сказала я и
повеселела.
Уж что-что, а стрелять я умела и пистолет и
винтовку знала.
- Я же ворошиловский стрелок,- с
гордостью отрапортовала я.
- Ну, раз ворошиловский,
то получай,- сказал Саша и снял с ремня пистолет в
кобуре.
И мы поехали. Ребята, видно, поняли мое
состояние: относились ко мне, как к равной, оставляли меня в карауле, подбадривали, немного подшучивали. Мне вообще теперь кажется, что партизаны
никогда, даже в самые тяжелые минуты, не обходились без шутки, задиристого,
острого словца. Это, как ничто другое, помогало выносить тяжелые будни
партизанской жизни, лишения и опасности.
В одном
селе мои ребята "для храбрости" еще раз приложились к самогону и мне налили.
От радости, что ли, но я отчаянно, впервые в жизни выпила полстакана. И
ничего: на меня это не подействовало. Нет, я и без того была пьяна. Я
чувствовала себя равноправной, нужной, впереди - определенность. Теперь-то
я буду партизанкой. Уже партизанка!
Задание у ребят,
кажется, заключалось в сборе оружия у населения по данным партизанской
агентурной разведки. Хлопцы мои лазили на сеновалы, в сараи, в погреба, на
чердаки домов. Одному деревенскому парню пообещали "всыпать", и только
после этого он увел ребят в сад и там, под деревом, помог выкопать целый ящик
с оружием.
- Почему скрывал? Для кого берег? -
кипятился Саша, сдвинув набекрень шапку, и его русый чуб грозно топор-
щился.
- Мне Митька велел спрятать. И никому не
отдавать. "Двадцать пятому" отряду сберечь.
- Слышь,
Ада,- расхохотался Саша,- твоему отряду.
Мы
объехали три деревни; очевидно, ребятам были известны адреса, и действовали
они безошибочно.
За эту ночь ребята меня здорово
экипировали. В одной деревне помогли сменять мои туфли и боты на стеганые,
сшитые на машинке ватные бурки с калошами. В другом доме этой же деревни,
куда мы зашли, одна девушка подарила мне шерстяные белые
перчатки.
К утру мы возвращались снова в Ляховичи.
Почти в центре деревни нас остановил вооруженный часовой и спросил пароль.
Выяснилось, что это возвращались с задания партизаны из "Двадцать пятого".
Теперь они отдыхали в доме связной Марии Ивашиной. Мы зашли в этот дом, и
я увидела там среди партизан своего дядю Николая.
-
Что же ты не приехал за мной, как обещал? - набросилась я на него, вместо
того чтобы поздороваться.
- Да понимаешь, Адка,
командир в другое место послал,- оправдывался Николай.- Но ты, того...
поезжай теперь с нами.
- А как же мы? - взлохматив
еще больше свой чуб и выпятив грудь, шутливо вскричал Саша.- Мы ее нашли,
мы ее отогрели, мы ее обули, одели, а теперь отдавай какому-нибудь дяде? Так
не пойдет.
- С кем была на задании - с теми и
поеду,- решила я этот шутливый спор.
Мы еще раз
остановились у дома дяди Саши, ребята забрали соль и напомнили, что я могла
вот до этого времени спокойно спать. "Может быть, вы бы и взяли меня, -
думала я,- но уж будить не стали бы. Нет, милые мои, правильно я поступила,
поехав с вами".
В лагерь мы приехали с рассветом. И
снова шутки в мой адрес:
- Если останешься в
"Боевом" - мы пойдем в штаб о тебе докладывать, а если хочешь в "Двадцать
пятый" - иди сама в их лагерь: вон туда, через ров, ищи штабную землянку и
просись, чтобы тебя приняли в отряд.
- Хорошо,
пойду сама. Спасибо вам, и до свиданья.
А они стоят у
коновязи - молодые, сильные ребята - и смеются.
-
Счастливо! Не выдавай, что мы ящик с оружием забрали у того слюнтяя. Ящик-то они для себя приберегали, да кое-кто нам проболтался. Мы еще встретимся с
тобой: придем посмотреть, как тебя приняли в "Двадцать
пятом".
Так как "Боевой" и "Двадцать пятый"
находились рядом, между ними даже не было охранения. Во всяком случае, меня
никто не задержал, и я свободно вышла в расположение "Двадцать пятого".
Вижу: "кухня" - костер с подвешенным над ним большим котлом. Тишина,
людей нет. Землянки на поляне рядком, но какая из них штабная? И как туда
войти? Как рассказать о себе? Может, действительно надо было остаться в
"Боевом"? Все же там появились у меня опекуны.
Очень
волнуюсь: наконец-то, наконец я в настоящей партизанской
зоне!
Это было для меня пределом счастья. Ведь здесь,
где-то совсем рядом, и мой Марат. Мне теперь ничего не страшно. А то, что я
сделаю все возможное,- в этом я была уверена. Вынесу все... Буду смелой... Не
заплачу... Не струшу... Не смалодушничаю... Такого чувства я никогда в жизни
еще не испытывала. Мне казалось, что я сразу выросла, стала сильной,
взрослой.
Пока я стояла и гадала, в какую землянку мне
войти, в одной из них отворилась дверь: показалась сначала шапка с красной
ленточкой, потом и сам партизан - ладный, подтянутый, с двумя гранатами у
ремня.
- Мара-ат!
- Адок!
Пришла? Вот молодчина!
- Где штаб? Проводи меня
туда.
- Да вот он: я там только что был. Пошли, тебя
же все знают. И дядя Коля говорил, и я.
Мы вошли в
землянку. Я осматривалась так, как будто это какой-то сказочный дворец. А
"дворец" был довольно просторный. Ровный квадрат земляного пола хорошо
утрамбован, по углам -четыре железные кровати под серыми солдатскими
одеялами. Сбоку у правой стены - большой стол на столбиках, вкопанных в
землю, сбитый из неотесанных досок. Такие же скамейки с двух сторон стола.
На нем карты, бумаги, чертежи. Потом я увидела стоящих рядом мужчину и
женщину в полушубках, накинутых на плечи. Она - с темными кудрявыми
волосами, с вздернутым носом, подтянутая, стройная, с браунингом на ремне
поверх гимнастерки. (Как я после узнала - Зина Егорова, комсорг отряда и
жена начальника штаба.)
Он высокий, красивый, даже
очень красивый, лет двадцати шести или двадцати семи, в смушковой папахе, в
военном обмундировании, в валенках. Это был Иван Федорович Егоров -
начальник штаба отряда.
Я смущенно здороваюсь,
мужчина ободряюще улыбается.
- Товарищ начальник
штаба,- четко рапортует Марат, став по стойке "смирно",- это моя сестра Ада.
Разрешите...
- Я догадался. Садись, Ада, поговорите
вот. А мы с тобой, Марат, зайдем к командиру. Дело
есть.
Не припомню уж, о чем мы говорили с Зиной в
первый раз, но мне врезался в память ее настойчивый, требующий немедленного
ответа вопрос: "Зачем ты пришла в партизанский отряд?"
Вопрос этот, как мне показалось, прозвучал
немного недружелюбно.
- Как - зачем? - так и
подпрыгнула я от неожиданности на лавке.- Воевать вместе со всеми, бить
фашистов.
Я так волновалась и боялась этой красивой
женщины. Мне казалось, что это от нее зависит, быть мне или не быть в отряде.
Помню, что, когда вернулись Егоров и Марат, я
снова обрела уверенность.
- Кем же ты у нас
собираешься стать? - улыбаясь, спросил начальник штаба.- Что бы ты хотела
делать?
Вот это уже другой
разговор.
- Все равно, но только чтобы
воевать.
- Ну конечно, воевать, а то как же! Все мы
здесь затем, чтобы воевать. Только вот оружия у нас маловато, а поэтому
поработаешь пока на кухне. Да ты не вешай носа,- засмеялся Егоров,-
зачисляешься ты бойцом-стрелком, а на кухне - это временно, всего на
несколько дней... Марат, отведи сестру в первый взвод первой роты. Передай,
что Ариадна Казей зачисляется к ним.
Землянка первого
взвода выглядела уже несколько иначе, чем штабная. Вдоль своеобразных
земляных нар, устланных соломой и тянувшихся вдоль стен,- узкий проход. В
конце его, у самой стенки,- крошечный столик из тонких стволов
неошкуренной ели. У входа в землянку, в правом углу,- печка из обычной
железной бочки с вырезанным отверстием для топки и жестяной трубой,
выходящей наружу сквозь потолок (вернее, накат). Рядом - узкая скамейка, на
ней-ведро с водой и жестяная кружка.
Пахло влажным
теплом, отогретой землей, соломой, еловым смолистым дымком, крепкой
махоркой, талым снегом, печеным хлебом и еще чем-то непривычным - то ли
прелым мхом, то ли лежалым листом. С накатных бревен капала вода. Не
сильно, но капала.
В землянке почти никого не было.
Женька Трич - мой земляк и сосед - чистил винтовку, да спала на нарах моя
двоюродная сестра Нина. Одно отделение взвода ушло на какую-то
хозяйственную операцию, другое находилось в
карауле.
Вошел Михаил Бондаревич - командир моего
отделения, которого ходил разыскивать Марат.
-
Пришла? - сказал он, хитро прищурившись, как будто расстался со мной
только вчера.- Значит, нашего полку прибыло. Спать вот будешь рядом с
Ниной. А с другого боку - я. Не возражаешь?
- Не
возражаю,- ответила я, совершенно счастливая. Женька Трич дал мне половину
какого-то старого одеяла, под боком была солома, под головой - мох. Чего же
лучше!
Днем я помогала Васе Давыдову на "кухне":
сидела под сосной и чистила картошку. Ладно, пусть будет картошка, но все
равно этот день - седьмое декабря сорок второго года - мой первый по-настоящему счастливый день с начала войны.
Вечером в
землянке собрался весь взвод, и тут я увидела командира нашего взвода Николая
Веселовского. Это был в прошлом кадровый
командир.
Кроме Женьки, Нины и меня, во взводе были
еще станьковцы: братья Михаил и Костя Бондаревичи и Валентин Пекарский. А
в отряде станьковцев было около 30 человек. И почти все они когда-то состояли
в группе, созданной Домаревым и мамой. Так что я попала не к чужим, а к
знакомым и даже близким людям.
В этот вечер я
впервые увидела Михаила Герасимовича Аскерко - командира нашей роты.
Это был милый, мягкий и умный человек, необыкновенно скромный,
улыбчивый. Я говорю "был", потому что он погиб в 1944 году... Если уж
вспоминать, кто погиб, то список это некороткий. Но все это произошло
позднее! А пока моей радости не было предела: все ново, интересно,
необыкновенно.
Второй день я тоже провела на
"кухне".
Вечером в землянку пришел политрук роты
Сергей Петрович Петкевич и прочитал сводку
Совинформбюро.
Впервые с тех пор как не стало мамы
и Домарева, я слушала сводку. И не тайно, а открыто, свободно. Я начинала
жить полнокровной жизнью бойца-стрелка, хотя и чистила два дня подряд
картошку. Зато вечером вместе с другими я разбирала и собирала ручной
пулемет.
Через день Михаил Бондаревич торжественно
вручил мне винтовку и сорок штук патронов в подсумке. Вот теперь я себя
чувствовала уже вполне равной со всеми, теперь я действительно могла считать
себя бойцом-стрелком.
БУДНИ
Меня начали посылать на посты и в
"секреты".
Числа 12 декабря вернулся из Станькова
Валентин Пекарский. Он по поручению дяди Николая заходил к бабе Мариле.
Рассказал он мне такую смешную историю.
...Так и не
дождавшись меня в Дзержинске, Костик привез все мои узелки и баночки к бабе.
Гадали, гадали, куда это я могла деваться, и решили, что, переходя по кладке
через Усу, я утонула. Искали меня с баграми по реке, не нашли: значит, унесло
тело течением. Баба и тетка даже меня оплакали. Баба сходила в Кайданово и
заказала попу молебен за упокой моей грешной душеньки. Баба ходила грустная,
не бранилась и даже корила себя, что отправила меня, не наказав держаться
возле сена и Костика.
Приехал Валентин и, конечно,
рассказал, что я жива-здорова и благополучно пребываю в партизанском отряде.
Что тут было!
Ругала и проклинала она меня так, что
Валентин, как и все станьковцы, знавший нрав моей бабы, и тот
опешил.
- Даже и на глаза не показывайся ей,-
хохотал во всю свою могучую глотку Валентин.- Она обещала тебе такого
перцу задать, что ты на всю жизнь запомнишь!
Я тоже
смеялась. Признаться, меня вся эта история позабавила: уж никак я не могла
предположить, что мой побег наделает столько
шума.
Дня через два - не больше - наш взвод
отправился в станьковский парк: туда, как донесла разведка, ожидался приезд
полицаев (гитлеровцев в это время в имении и в военном городке не
было).
Засады я не боялась, а вот встретиться с бабой
Марилей или с теткой Верой опасалась.
Уже перед
самым парком командир взвода Веселовский приказал мне взять сани в
пароконной упряжке и вернуться к станьковскому кладбищу, замаскировать
лошадей и наблюдать за шоссейной дорогой Минск - Негорелое, проходившей
вплотную к кладбищу. В случае появления полицаев - на сани и с донесением к
командиру взвода.
Я с удовольствием выполняла
приказ: с лошадьми умею управляться с самого детства. Я вскочила в сани,
натянула вожжи и пустила лошадей галопом, чтобы проскочить незамеченной
мимо дома моих родственников.
Сделала все, как мне
было велено: лошадей и сани замаскировала и начала наблюдать за
дорогой.
Прошел час. И два, и три... Ничего
подозрительного я не видела. Одолевал мороз, хотелось есть. Лошади уже
сжевали все сено до травинки, Веселовский не слал мне
подмену.
Полицаи так и не появились. К этому времени
они уже здорово боялись партизан и предпочитали лучше отсиживаться в
Дзержинске.
Я не могла понять, почему командир
взвода не сдержал своего слова. Засада была спокойная, можно было за это время по крайней мере дважды сменить наблюдающего за шоссейной дорогой. Мне
еще трудно было разобраться, правильно ли вел себя командир. Я твердо
усвоила, что приказы надо не обсуждать, а
выполнять.
Однако даже в эти первые дни у меня с
командиром складывались какие-то странные отношения. Он явно ко мне придирался, наказывал за каждый пустяк, и я все время ощущала на себе его наглый
взгляд.
А однажды я услышала, как Михаил Бондаревич
сказал Веселовскому около нашей взводной
землянки:
- Ты осторожнее с Адой. Оставь ее в
покое.
- А ты не указывай мне,- прикрикнул
Веселовский,- не твое дело! Я здесь командую.
-
Знаю. Тут дело не в команде. Я ведь не маленький - вижу. А она девчонка
совсем.
- Разберемся...- Веселовский засмеялся, и в
его смехе было для меня столько омерзительного, что я, услышав этот разговор,
стала еще больше опасаться командира взвода.
Может
быть, сегодня, посылая меня на лошадях, Веселовский не думал ничего дурного,
и все же, как мне кажется, не все здесь было чисто.
Он
думал, возможно, что я не выдержу, расплачусь... Не знаю уж, что он думал и на
что надеялся. Только я снова видела его наглые глаза, его кривую улыбку. Нина
потом шепнула мне:
- Да он просто издевается над
тобой. Ему Бондаревич говорил, что пора послать тебе смену, а он только
отмахнулся.
Случилось так, что почти сразу я
сдружилась с разведчиками из "Боевого": они часто приходили в наш взвод
через ров, да и я к ним бегала. Славные это были
ребята.
Меня еще привлекало и то, что был среди них
Саша Лобач, родной брат моей подружки Иринки из Кукшевичей. Он часто
ездил домой, привозил продукты и обязательно приглашал меня то "на мед", то
"на крестьянскую колбасу", то просто "на чай". Я охотно бегала к разведчикам
"Боевого", тем более что Саша каждый раз рассказывал что-нибудь новое
об Иринке.
Но если уж говорить честно - теперь-то я
это понимаю хорошо,- то больше всех в разведке соседнего отряда меня привлекал Саша Райкович. По общему признанию, это был среди них самый
отчаянный и находчивый. В восемнадцать лет он успел повоевать, был ранен,
попал в плен и бежал.
Вот с этим парнем у меня
возникла хорошая дружба. Не знаю, может быть, это и было моим первым, еще
не осознанным чувством. Началось с того, что он подарил мне старый наган,
который, как я потом убедилась, неплохо стрелял, а себе добыл новенький
трофейный пистолет.
Иногда Саша приходил к нам во
взвод. Конечно, это не могло быть не замеченным всеми моими товарищами и
Веселовский. Отношения между нами были чистые, искренние. Я хотела видеть
Сашу как можно чаще, думаю, что он также. Меня восхищало в нем все:
мужество, скромность, застенчивость, непоказная сила. Веселовский гнал его из
землянки, а мне стал мстить.
Вот почему случай с
засадой на станьковском кладбище не был уж такой новостью ни для меня, ни
для других во взводе.
Итак, мы возвращались из
бесполезной засады на полицаев у станьковского парка. Нас догнали верхом на
лошадях разведчики из "Боевого".
Были здесь оба Саши
- и Лобач, и Райкович. Они поехали рядом с моей повозкой. Веселовский при
чужих не посмел чем-либо проявить свой нрав.
Мне
захотелось выкинуть какое-нибудь коленце, я как-то вся оттаяла,
развеселилась.
А что я могла
"выкинуть"?
- Давайте постреляем из моего нагана! -
предложила я Лобачу и Райковичу.
Они, конечно,
согласились.
Мы приотстали и по очереди целились в
березу. Райкович две пули послал в цель, а мы с Лобачем... "за
молоком".
Выстрелов наших Веселовский не слышал,
но, когда я вернулась в лагерь в сопровождении того же своего "почетного
эскорта", он встретил меня таким бешеным взглядом, что добра я не
ждала.
В этот же вечер он послал меня с ребятами за
соломой и сеном в деревню Любожанку и обменять лошадей и сани в деревне
Добринево.
Мы сделали все и вернулись под утро в
лагерь. Правда, трудно мне было, не отдохнув после засады, вместе с ребятами
укладывать вилами сено и солому на сани, а после пешком возвращаться в
лагерь.
Мы сделали нужное дело: пригнали крепких
лошадей, привезли корм для них и свежие "матрацы" - солому - для всего
отряда.
Вот я рассказываю все это и невольно думаю: ну
что интересного в моих "приключениях"? Действительно, никаких геройских
подвигов я не совершала, особым опасностям не подвергалась. Все буднично и
обычно.
Помню еще, ездила со своим отделением в
засаду на шоссейную дорогу около деревни
Добринево.
Начальник отрядной разведки Парамонов и
Марат (Парамонов повсюду брал с собой Марата), узнали, что по дороге из
Негорелого полицаи повезут соль. Пожалуй, по тому времени не было ничего
дороже соли, особенно для партизан. Даже пушки делали умельцы в нашей
партизанской "Туле", добывали из мин и старых снарядов порох. С трудом, но
добывали обмундирование и одежду, картофель, сало, мясо и муку, а вот в соли
партизаны почти всегда испытывали нужду. Запасов ее у местного населения не
было, и соль ценилась почти на вес золота. В отряде мы ели один раз в сутки
нехитрый обед, приготовленный нашим поваром Васей Давыдовым, но хлеб и
бульба чаще бывали несолеными. А тут - целый обоз соли! Участие в такой
операции я считала для себя большой удачей.
Я
стояла, замаскировавшись у крыльца клуба, и наблюдала за шоссейной дорогой.
Ребята меня подменяли часто, а я бегала греться. Наверно, только часа через три
вдали послышались гомон возчиков и скрип саней, а вскоре показался на дороге
и сам обоз. Стрелять нельзя - всполошатся возчики. Я побежала к хате, где
грелись ребята, и постучала им условно: три длинных и три коротких. Через
несколько минут все отделение во главе с Бондаревичем рассыпалось цепочкой
при въезде в Добринево.
Как только обоз втянулся в
деревню, с винтовками наперевес и с гранатами мы окружили
его.
Произошло все без единого выстрела. Мужики (это
были не полицаи, а колхозники) подняли руки. Обоз, правда, возвращался без
соли, хотя и были оформлены накладные на ее получение. Соль ожидали на
станции только через два-три дня. Бондаревич проверил документы, узнал
фамилии всех возчиков, места их жительства.
- А
почему не полицаи поехали, а вы? - спросил Бондаревич старшего по обозу -
щуплого мужичка, обросшего большой, как у Черномора,
бородой.
- Дак боятся они теперь партизан, на нашем
брате выезжают.
- А мы ведь могли вас свободно
подстрелить,- засмеялся Бондаревич.- Знали, что полицаи
поедут.
- Могли, чего
там...
- Так вот,- заключил Бондаревич,- сейчас в
хате я всех вас перепишу. Все вы снова поедете за солью, получите ее, а мы вас
встретим на этом же месте. А может, и не на этом. Если кто-нибудь из вас
попробует донести в полицию или гитлерюгам - пеняйте на себя. Всем
ясно?
- Чего уж там! Мы ничего не знаем и ничего не
слышали. Остановите - забирайте соль, да и подводы тоже. А захотите, так нас
можете прихватить. Мы с великой душой к партизанам подадимся, чем так-то
горе мыкать.
Через три дня мы снова были в засаде, но
уже километров за пять впереди Добринева.
Мужики
встретили нас как старых знакомых. Именем Советской власти мы
конфисковали у них несколько мешков соли (они получили ее не полностью) и
дали в том расписку.
Старший опять затеял разговор о
том, чтобы уйти в партизаны. Бондаревич пообещал через связных сообщить им
решение командования.
Встречали нас в отряде с
большой радостью, как будто мы совершили подвиг. Мы даже немножко
загордились.
Эта соль была настоящим богатством,
которое помогло отряду вынести труднейшее испытание, вскоре выпавшее на
нашу долю.
В Станьково я больше не показывала носа.
Белье свое стирала под елками на морозе. Выносила из землянки нагретое ведро
воды и там же мыла голову и сама мылась. Морж не морж, а близко к этому.
Смены белья и верхней одежды у меня не было. Накину после мытья и стирки на
голое тело юбчонку с кофточкой, поверх пальто, на голову платок. В таком виде
просушу над костром нижнее белье, переоденусь - и вот я снова чистая. Или уж
мы были загаданы такими здоровыми, не подверженными всяким простудам,
или в то время вообще болеть было "не положено", но я не помню, чтобы кто-нибудь из партизан простужался.
На неудобства никто у
нас не жаловался, не роптал. Какая-никакая, а крыша над головой была: жили в
землянках, спали на соломе. Были у нас свой портной и парикмахер, даже
санвзвод - отдельная землянка, с настоящими полами, с железными кроватями,
с белыми простынями, с хорошим столом под клеенкой, только не было
медикаментов и перевязочных материалов.
Почти все,
пока была возможность, навещали родных и знакомых в селах, мылись там в
банях и меняли белье.
Как-то дядя Николай и Марат
поехали к бабе Мариле "на санобработку", а ночью вдруг вернулись - и сразу в
санвзвод. Узнаю: Марат ранен! Я бегом к землянке - лежит мой малыш
бледный, большая головенка его на тонкой шее повернута набок, на лбу
капельки пота.
Оказывается, перед тем как мыться,
Марат решил почистить пистолет, но каким-то образом забыл, что в стволе
остался патрон. Раздался выстрел: ранение было сквозное у кисти, несколько
дней он температурил, не мог есть. Заботились о нем все - и командиры и
рядовые. И разведчики - особенно разведчики. Даже из "Боевого" пеклась о
нем вся разведка.
Я к нему бегала каждую свободную
минуту. Принести ему я ничего не могла, да и где было взять? А вот наши
разведчики и разведчики "Боевого" добывали кое-чего. Почти во всех
ближайших деревнях знали и любили нашего малыша и посылали "для раненого
Марата" гостинцы: мед, яички, масло, даже кто-то прислал свежие
пирожки.
Знали его уже хорошо и полицаи, и каратели.
Знали и охотились за ним.
Райкович и другие ребята из
"Боевого" заверяли меня, что я смогла бы стать хорошей разведчицей. Сама я
всем сердцем рвалась в разведку. Эта мысль не давала мне покоя. И только долг
перед своими товарищами, принявшими меня в отряд, останавливал меня. Все
же я решила посоветоваться с Маратом, как быть.
-
Иди, Адок, к разведчикам, - сказал Марат.-Я бы сразу пошел и думать не
стал.
Его слова придали мне решимость перейти к
разведчикам "Боевого".
Конечно, если бы это было
сейчас, я бы стала действовать по-другому: подала бы рапорт, доложила
начальству. А тогда мне казалось, что достаточно моего собственного согласия,
и все будет в порядке.
Вечером в нашу землянку вошел
Миша Мерцелава и принес записку от Райковича. Саша писал мне, что у него
открылась рана (он был ранен в ногу еще в первые дни войны, из-за чего и попал
в плен). Просил, если я смогу, прийти, он будет ждать меня. В записке было и
несколько ласковых слов, которые заставили мое сердце радостно забиться. Он,
кажется, впервые обращался ко мне с такими словами.
Я
не могла почему-то сразу пойти и написала на обороте этой же бумажки ответ. И
только хотела отдать записку Мише, как подскочил откуда-то Веселовский и
выхватил ее у меня из рук. Я готова была его ударить, но нашла в себе силы
сдержаться: подумаешь, дурак бесится.
Миша
повернулся и ушел.
Я тут же накинула на плечи пальто
и за ним вслед. До землянок "Боевого" через ров всего 100-150 метров. Теперь
уж я не колебалась: сегодня я дам согласие Цибульскому и перейду в разведку
"Боевого".
В землянку я вбежала запыхавшись и
увидела Сашу Райковича лежащим с лихорадочно блестевшими глазами. У него
была высокая температура. Не стесняясь Саши Лобача, который хлопотал около
печурки, я прошла прямо к Райковичу, села около него и взяла его горячую руку.
Боже мой, что я чувствовала в эту минуту, какой я казалась себе смелой, какие
нежные, незнакомые мне слова рождались в моей душе! Уж очень жаль было
Сашу, хотелось погладить его, как Марата, утешить,
подбодрить.
- Ну что ты расхныкался? - неожиданно
для самой себя сказала я.- Марат вот маленький, и тот терпит. А ты ведь
мужчина!
Саша улыбнулся, слабо пожал мне руку, но
даже не успел ответить, как распахнулась дверь и в землянку ввалился Веселовский с пистолетом в руке.
- Наших здесь нет? -
заорал он прямо с порога, Лобач ответил:
- Свои
здесь.
Я сидела за столбом-подпоркой, и меня не было
видно. Возможно, он ушел бы, не заметив меня: в землянке был полумрак. Но
что-то во мне взбунтовалось, что-то мешало промолчать и отсидеться в
укрытии.
- Вы меня ищете? - сказала я, выступая из-за столба.- Сегодня я пока в вашем распоряжении.
Не
помню уж, как я вышла из землянки. Веселовский шел с пистолетом, гнал меня
перед собой, орал благим матом и грубо оскорблял меня. Так, с дикими
ругательствами, и привел он меня в нашу
землянку.
Расставив широко ноги, выкатив налившиеся
кровью глаза, с пистолетом в руке, он стал читать вслух записку Саши и мой
ответ ему. Веселовский обвинил меня в самовольном уходе из расположения
отряда. И объявил:
- Даю десять дней
гауптвахты!
Все насторожились: вот уж чего у нас не
было в отряде, так это гауптвахты. Да и вообще многие из нас впервые слышали
это слово.
- А где же ваша гауптвахта? - спросила
Нина, которая была чуть посмелее других.
- Будет...
Будет отбывать домашний арест,- поправился
Веселовский.
Он тут же отнял у меня винтовку и
передал только что прибывшему из Станькова .новому
партизану.
Мне казалось, что большего позора и стыда
быть не может. Ведь у меня отобрали даже винтовку, а какой я боец без
винтовки? Правда, у меня оставался подаренный Сашей наган, лишь потому, что
о нем не знал Веселовский.
Я все время плакала, не
могла сдержаться: мне стыдно было смотреть на ребят. Они всё видели,
понимали, а сделать ничего не могли.
В землянке
угрюмое молчание, только слышны мои всхлипывания.
На этом мои муки не
окончились.
В два часа ночи Веселовский вызвал меня в
штаб роты и снова обрушился с руганью и
оскорблениями.
Я стояла у стола, слезы сами лились
ручьем. Я никогда не предполагала, что у человека может быть столько слез. Ругань Веселовского, строгое лицо Аскерко...
У меня даже
начинали появляться такие мысли: а может быть, я на самом деле совершила
ужасное преступление, затеяв всю эту историю с переходом в разведку другого
отряда? Может быть, карается законом то, что я убежала из расположения
отряда проведать Сашу? Может быть, я и на самом деле такая, какой он меня
представляет?
Уж если меня хотят расстрелять за
дезертирство (Веселовский так и говорил!), то дела мои действительно
плохи.
Не было мне никакого спасения от разъяренного
Веселовского, и ждать помощи было неоткуда.
Но
помощь неожиданно пришла.
Я вдруг услышала
спокойный и строгий голос:
- Хватит
вам!
Это сказал наш маленький командир роты Михаил
Герасимович Аскерко. Он был непривычно сердит, этот человек, от которого
никто еще, кажется, не слышал окрика или грубого
слова.
- Что вы так распоясались, Веселовский?- Он
шагнул вперед.- Что ужасного сделала эта девушка? Что? Разве у вас есть
право запретить ей дружить с парнем или даже любить? А ты,- повернулся он
ко мне всем корпусом,- почему ты молчишь? Почему постоять за себя не
можешь?
- Вы же слышали...- всхлипнула
я.
- Все слышал. Действительно, на такое отвечать
словами нельзя! Можно только бить по морде. Но ты этого не можешь - ты
девушка!
Мое настроение сразу изменилось, я вытерла
кулаками глаза.
- А надо бы, надо бы,- раздумчиво
произнес Михаил Герасимович,- но я не имею права: Веселовский командир
взвода, воспитатель. Да, черт возьми, воспитатель! - Аскерко укоризненно
покачал головой.- Могу только написать рапорт комиссару отряда. И напишу!
А ты, Ада, иди и ложись спать. Дело-то все выеденного яйца не стоит, а такой
шум подняли. Иди, иди, Ада!
Какой груз снял с меня
наш "мужичок с ноготок"! (Так его любовно звали не только в роте, но и во всем
отряде.)
Веселовский во взводную землянку долго не
возвращался, а потом пришел буквально взмыленный и пунцовый. Видно,
досталось ему крепко.
Меня он больше не трогал и даже
как будто не замечал.
Два дня я была как после тяжелой
болезни, даже не смогла пойти в "Боевой". Что-то меня удерживало, хотя я и
знала, что Саша ждет.
Бывший партизанский командир
Михаил Бондаревич рассказывал, что Ада быстро привыкла к партизанской
жизни. Он считал ее одним из лучших бойцов своего отделения. На все задания,
даже самые опасные, Бондаревич брал с собой Аду, не оставлял ее в лагере. Ему
было это тем легче делать, что командир роты Аскерко, после нахлобучки,
которую он устроил Веселовскому, попросил не спускать глаз с Ады и лично
ему докладывать в случае, если Веселовский хоть в чем-нибудь нарушит данное
им слово оставить Аду в покое.
Михаил Бондаревич
часто вспоминает те далекие сороковые годы. Особенно врезались в память две
боевые операции, в которых участвовала Ада.
Однажды,
вернувшись из разведки, Марат сообщил, что по дороге на деревню Шикотовичи
на двух подводах едут немцы.
Отделению Бондаревича
было приказано устроить засаду, уничтожить немцев и захватить их
оружие.
Место для засады не очень удобное: редкий
кустарник у самой дороги, дальше от него - большое поле и только за ним лес.
Лошадей оставили в лесу и бегом по глубокому снегу бросились к дороге. Надо
было успеть залечь в кустарнике и ждать там появления
немцев.
Ада бежала рядом с Бондаревичем. Она
выпросила его винтовку, а ему дала свой наган.
От
лагеря, когда ехали по очереди на возке и по очереди бежали за ним, Ада ни разу
не рассталась с винтовкой, и Михаил сказал Аде:
-
Дай мне винтовку.
- Ты что? - испуганно вскинулась
она на него, отстраняясь.
- Да отдам я ее тебе, не
бойся. Донесу и отдам.
- Ты сам учил, что боец не
должен расставаться с винтовкой даже во сне.
Михаил
невольно вспомнил ее в военных играх, которыми в детстве командовал его
младший брат Костя.
Ада - настоящая огневка -
карабкалась по деревьям, могла залезть на любую крышу и дралась так яростно
и отчаянно, что ее побаивались многие воинственные
мальчишки.
Ада и сейчас со своей винтовкой не только
не отставала от других бойцов отделения, но и "прижимала" их на своих
быстрых ногах.
Добежали до кустарника, окаймлявшего
дорогу, и залегли.
С той стороны, откуда должны были
появиться немцы, километрах в трех, дорога с горочки шла под уклон. Бондаревич все время наблюдал за ней в полевой бинокль, который дал ему
начальник штаба отряда Егоров.
Через полчаса
показалась подвода.
Партизаны приготовились
встретить ее, но вскоре убедились, что едет какой-то
старик.
Поравнявшись с ними, он отвернул голову,
будто ничего не заметил, но не заметить людей в нескольких шагах при всем
желании было нельзя. Михаил Бондаревич скомандовал старику остановиться,
двое партизан взяли под уздцы его лошадь и завернули в
кустарник.
На всякий случай до конца операции Михаил
решил задержать старика, а лошадь приказал увести в
лес.
Старик сказал, что он не видел немцев, ездил
менять зерно на соль, но ничего не выменял.
Он угостил
партизан крепкой моршанкой и, ни о чем не спрашивая, лежал вместе со всеми,
потягивая свою самокрутку.
Время шло, а немцев все не
было.
И вдруг донеслась песня. Ни слов, ни ее мотива
разобрать было нельзя.
Потом на горочку одна за другой
выехали две подводы. Бондаревич видел в бинокль: на них с зажатыми в коленях
автоматами сидели немцы и распевали
песню.
Партизаны должны были подпустить их шагов
на пятьдесят, не меньше, и стрелять по команде.
Пока
все шло по плану. Но неожиданно, когда уже две повозки спускались по дороге,
на гребне появилась третья. И на ней тоже сидели
немцы.
Это меняло все. Открыв огонь по двум первым
подводам, партизаны подвергли бы себя серьезной опасности: уйти безнаказанно
через открытое поле к лесу они уже не смогли бы, так как немцы на третьей
подводе были вооружены автоматами, а возможно, и
пулеметом.
Не стрелять тоже не могли: поравнявшись с
засадой, немцы с первых подвод все равно увидели бы партизан и открыли
огонь.
В эти напряженные минуты Ада подползла к
Бондаревичу и зашептала в самое ухо:
- Давай я
выйду на дорогу, пойду к ним навстречу и задержу их, пока не подъедет третья
подвода.
- Лежи,- приказал он.- Так они и
задержатся...
- Увидишь. Ты только дай мне наган. Я
знаю, как с ними говорить. А когда подойдет третья подвода, я упаду на землю, а
вы сразу открывайте огонь.
Раздумывать было некогда,
и командир согласился.
Ада быстро прицепила наган на
пояс под пальто и уже приготовилась выйти на
дорогу.
Но в эту минуту первые подводы остановились.
Едущие впереди немцы решили подождать отставших. Прямо как по заказу! Они
остановили своих лошадей и, размахивая руками, не переставая петь,
дожидались третью подводу. Один из немцев на первой подводе встал и
дирижировал "хором".
Ада снова взяла винтовку
Михаила, а он - ее наган.
Несколькими залпами сняли
всех немцев. Никто из них не успел сделать ни одного
выстрела.
Партизаны собрали пятнадцать автоматов, два
пулемета, патроны и на трех подводах уехали в лес, оставив на дороге
пятнадцать убитых гитлеровцев.
Старика тут же
отпустили. Посмеиваясь, он сказал на прощание:
-
Хоть и не раздобылся я солью, зато своими глазами увидел, что партизаны не зря
хлеб едят.
Михаил взял на всякий случай адрес у
старика, и он потом стал партизанским связным.
Через
какое-то время Ада два или три раза ходила в
Станьково.
Она следила за станьковским гарнизоном и
выяснила, что из казарм ушли все немцы. Оставалось всего несколько человек,
охранявших казармы.
Через два-три дня, как это уже
было, могли прийти новые подразделения.
И Аде и
Бондаревичу не давала покоя мысль уничтожить все помещения, где обычно
располагались гитлеровцы. Ведь это намечали сделать еще Иван Андреевич
Домарев и Анна Александровна Казей...
Михаил
упросил командира отряда дать ему двадцать человек для этой
операции.
Ада и Марат знали, где в Станькове было
спрятано несколько бочек бензина. Они заранее собрали по дворам в
партизанских семьях канистры. Ночью их наполнили
бензином.
Бесшумно, ножами, партизаны сняли
немецких часовых, залезли на чердаки столовой, двух казарм, пяти бывших
домов командного состава и подожгли их. Тут Ада и Марат знали все ходы и
выходы, лазали как кошки.
Вернувшись в станьковский
лес, партизаны залезли на деревья и видели огромное зарево пожара. Тушить его
гитлеровцы приехали из Дзержинска, но почти ничего спасти не
могли.
В Станькове с этого времени уже до конца
оккупации Белоруссии никогда не было немецкого
гарнизона.
А Бондаревич и Ада считали, что в какой-то
степени выполнили наказ Ивана Андреевича и Анны Александровны.
ВО ВРАЖЕСКОМ
КОЛЬЦЕ
Третий день шел
бой с карателями у хутора Борки.
По данным разведок
нашего отряда и "Боевого", стало известно, что весь лес берется в кольцо,
каратели подтягивали сюда не только пехоту, но и артиллерию. Хутор Борки от
нашего лагеря находился всего в пяти километрах. Там вела бой рота Антонова.
До нас долетали звуки пальбы, а после полудня Антонова привезли в лагерь
тяжело раненным.
Весь лагерь был поднят по тревоге,
лошади запряжены, раненые уложены на повозки (это были Марат, Антонов и
двое больных). Марат, впрочем, отказался ложиться: он стоял около повозки,
рука его висела на перевязи.
Начальник штаба Егоров,
весь в ремнях, строгий, подтянутый, вышел перед строем партизан и разъяснил
обстановку: лагерь взят карателями в кольцо, выходить из окружения будем
вместе с "Боевым", если удастся где-то нащупать слабое место в кольце,
прорываться и двигаться в район. Копыл я. Здесь базировалась бригада имени
Ворошилова. Было решение, что если не все сумеют выйти из окружения вместе,
тогда действовать отдельными группами и поодиночке пробираться до
Копыльского района, к ворошиловцам. Кто не дойдет туда, через 4-5 дней
пусть вернется в наш лагерь и ждет разведку из штаба
отряда.
Приблизительно около полуночи отряд
выступил из расположения лагеря, пристроился к "Боевому", и все двинулись на
юго-запад, к лесным деревням Любожанка и
Александрове.
Марат оставил санвзвод и шел с нашей
ротой, рядом со мной.
Одет он был хорошо, разведчики
его экипировали по всем правилам зимнего времени: полушубочек, валенки,
теплый платок на шее (мой - я ему повязала, выходя из лагеря), ушанка,
рукавицы. При нем пистолет и гранаты. Его винтовкой завладел кто-то другой:
он ведь был "на излечении" и - все в тех же бурках, в пальто, подбитом
"рыбьим мехом", под ним, в кобуре, наган.
Колонна
выглядела внушительно, да и обоз за ней тянулся
порядочный.
Обогнув небольшую лесную полянку,
вступили в ельник и, соблюдая крайнюю осторожность, двигались в абсолютной
тишине. Каратели, цепи которых были уже близко, не должны были услышать
даже хруста сухой ветки.
У каждого партизана было по
небольшому кусочку хлеба - перед выступлением Вася Давыдов выдал этот НЗ.
Мы молча подкреплялись, не перекидываясь друг с другом ни единым
словом.
И вдруг в этой настороженной тишине раздался
винтовочный выстрел. (После выяснилось, что по преступной неосторожности
выстрелил какой-то растяпа.)
Этот случайный выстрел
спутал все планы.
И посыпалось, загремело, засверкало
кругом...
"Боевой", не раздумывая, как по сигналу,
пошел вперед напролом, не дав врагу опомниться, и ему удалось не только
прорвать с боем кольцо окружения, но и вывести весь отряд и свой штаб. Но
наши не сумели воспользоваться готовыми "воротами", замешкались. Лишь
части людей нашего отряда удалось проскользнуть следом за "Боевым", но
затем немцы снова сомкнули кольцо, и основная масса "Двадцать пятого"
осталась внутри кольца под шквальным огнем минометов, пулеметов и
автоматов карателей.
Все произошло так стремительно,
так быстро, что все мы потеряли друг друга и свои подразделения. Со мной
рядом был только Марат. Оценить как-нибудь обстановку мы не могли, да и
времени на это не было.
Марат, у которого была
удивительная способность ориентироваться на местности, посоветовал пересечь
поляну, выйти в другой массив леса, на юг, а там будет видно, что делать. Я
послушалась его.
И вот мы с ним поползли через
поляну, на которой, казалось, был сосредоточен весь огонь карателей. Ему было
очень трудно, с одной-то рукой.
Где-то справа от меня,
на краю поляны, разорвался артиллерийский снаряд - смешались деревья, снег,
земля... Марат исчез в этом вихре... Стало тише, только огненными лентами
полосовали лес очереди трассирующих пуль.
Не могу
даже сейчас представить, как я ползла, как прижималась к земле: если бы можно
было стать кротом, найти подземный ход, укрыться, во что бы то ни стало
укрыться!
...Вот лес, вот он! Встала уже в густом
ельнике - и снова залп, и снова очереди из пулеметов
трассирующими.
- Чего стоишь,
дура!
Меня кто-то сшиб с ног. Это был Иван Воробьев,
каким-то чудом оказавшийся здесь. Вместе с ним мы пробрались от края поляны
в глубь леса. Стало тихо. Вскоре мы встретили наших из разных взводов и рот.
Тут была моя Нина, Леонид Балашко, Веселовский, Аскерко, Чугаевский,
Михаил и Костя Бондаревичи, Михаил Ивашин.
Уже
где-то вставала в тумане заря (это казалось зарей), небо чуть розовело,
жемчужно-молочное и тревожное.
Мы двинулись всей
группой осторожно, чутко прислушиваясь.
Шли лесом
около часа. Я инстинктивно все время оглядывалась: мне чудился Марат. В
голове у меня звенело, в кровь разодранные колени и руки саднило, одежда
висела клочьями. Но не боль меня донимала, неотступная душевная мука: неужели он погиб во время того ужасного взрыва?
Кругом
тишина, только сосны шумят. И вдруг стало доносить ветром какой-то
сладковато-приторный запах: вдохнешь, а он лезет тебе в нос, в рот, внутри
отзывается неприятной тошнотой и сухостью.
Через
некоторое время сквозь кусты и заросли стало видно зарево пожара - мы шли
прямо на него. В этом направлении, мы знали, должна была быть лесная
деревушка Литавец. В ней мы собирались отдохнуть, узнать о немцах и выбрать
дальнейший путь.
Деревня Литавец догорала. Огромное
тлеющее страшное пожарище: кучами лежат обугленные мертвые тела жителей
Литавца. Воздух пропитан запахом горящего человеческого мяса. (Этот запах,
эта картина, достойная Дантова "Ада", с тех пор преследуют меня в кошмарных
снах. Спустя 28 лет на месте уничтоженной дотла карателями деревни Хатынь
был создан мемориальный памятник. Есть там и 136 обелисков сожженным и не
восстановленным деревням Белоруссии. Среди них я отыскала Литавец. И здесь
все произошло, как в Хатыни, как в десятках и сотнях других белорусских сел.
Ведь всего на нашей белорусской земле было сожжено около 300 сел и деревень,
подозреваемых в связях с партизанами.)
Ни одного
человека из Литавца не осталось в живых, за исключением двух или трех, кто в
эту ночь не был дома. Всех жителей, даже малых детей, согнали в сараи,
закрыли там и подожгли. Тех, кому удавалось выбраться, убивали в упор из
пулеметов и автоматов.
Мы не могли сразу отойти от
этого зловещего места. Стояли в кустах, задыхались от этого ядовитого
сладковато-тошнотворного дыма. Стояли в молчании у этой огромной
пылающей могилы, пока Аскерко не скомандовал идти за
ним.
Минуя выжженные кустарники, мы двинулись на
юг.
Насколько я помню и знаю расположение районов и
лесов, необходимо было обойти массив обложенного карателями леса, а потом
повернуть на юго-запад - к Копыльскому району. Там у деревни Песочное
базировались ворошиловцы.
С этой ворошиловской
бригадой был тесно связан "Боевой". По совету ее командования наш отряд и
двигался на соединение с ворошиловцами, что позднее и произошло. (Через
несколько месяцев, придав "Двадцать пятому" еще три отряда ворошиловцев,
образовали новую бригаду - имени Рокоссовского. Командиром ее стал
начальник штаба ворошиловцев Баранов, а начальником штаба - наш
Егоров.)
Совсем уже рассвело. Нужно было где-то
переждать день. И к великому нашему огорчению, мы вышли к опушке леса и
услышали какой-то подозрительный шум. Веселовский сходил в разведку и
узнал, что недалеко расположились сотни карателей.
Он
подал нам знак рукой, приложив ее к губам: молчать и ложиться. Мы залегли в
кустарнике не более чем в 40- 50 метрах от немцев. Хорошо была слышна их
речь, даже стук бросаемых консервных банок.
День был
ясный и очень морозный. При малейшем движении снег хрустел так, что,
казалось, скрежетал на весь лес. И отойти назад нельзя: нас выловили бы, как
зайцев.
Сначала мне не было ни холодно, ни страшно.
Но, пролежав в неподвижности на снегу часа три-четыре, я начала замерзать.
Раньше всего у меня окоченели ноги. В голенища моей дряхлой обуви снег
набирался всю ночь: и когда я шла, и когда ползла. Набирался, таял, впитывался
в сукно и вату бурок. Пока мы шли, я даже ни разу не обратила внимания на
свою обувь: мне было о чем думать в эту ночь. Теперь бурки мои обмерзли и
буквально превратились в камень. Ноги стали нестерпимо ныть и болеть. Я
попыталась, лежа на животе, постучать задниками друг о друга-стук получился
неожиданно громкий, и Веселовский посмотрел на меня
угрожающе.
Ребята, все обутые в валенки, как-то
ухитрялись снимать их, растирать ноги снегом, а у некоторых, особо
запасливых, находились даже за пазухой сухие
портянки.
А у меня и портянок не было, да и как я могла
их использовать, когда мои бурки влезали только на один чулок. Снять бы их,
потереть ноги снегом, но набрякшие, замерзшие бурки не влезли бы снова на
мокрые чулки.
Потом я перестала чувствовать боль в
ногах и вообще перестала думать о них. Марат, Марат, Марат -вот что
занимало все мои мысли, вот что жгло меня и не давало покоя. Беспокоила меня
и судьба Райковича.
(Как уж там случилось, сейчас не
припомню, но я узнала, что за день до начала блокады Саша, несмотря на рану,
уехал в разведку и не вернулся больше на базу.)
Я
боялась уснуть и вызывала в памяти Лёлю, маму, вспоминала папку. Вспоминала
ночь под Новый, 1943 год: как раз в 12.00 я стояла на посту в нашем лагере,
смотрела на яркие дрожащие звезды и слушала музыку, доносившуюся из штабной землянки. Там играл патефон, который незадолго до того привезли
разведчики, выклянчив его вместе с пластинками у кого-то из
родственников.
Народное поверье гласит: что делаешь
под Новый год, тем будешь занят и весь год; неужели я еще так долго буду
стоять только на посту? Неужели так долго еще продлится война? И тут же
вспомнила такую же ночь под Новый, 1942 год, наши гадания с девчонками "на
кольцо". Я загадывала на маму - видела могильный холм, загадывала на
жениха - мерещился военный человек с пышной шевелюрой (когда смотришь,
стараясь не мигать, по два часа в одну точку в кружок кольца через воду, и не
такое "увидишь"!).
Через всю мешанину воспоминаний
снова и снова всплывали Марат и Саша. Что с ними? Где они? Живы
ли?
Мы решили дождаться темноты и тогда двинуться в
обход фашистов. Веселовский от злости скрежетал зубами и готов был
выпустить в немцев очередь из "ППШ". Аскерко, как мог, на пальцах, без слов,
одними жестами и мимикой, втолковывал ему бессмысленность такой затеи: нас
была жалкая горстка, а их сотни, до зубов
вооруженных.
Всем очень хотелось курить. Не могу
припомнить более сильного желания: к тому времени я уже основательно пристрастилась к этому зелью. Табак у нас был, спички были, и тем тяжелее мы
переживали это вынужденное воздержание.
С
наступлением темноты фашисты вдруг решили уйти: послышались громкие
команды на построение, топот ног, скрип полозьев по снегу. Стало тихо, мы
получили возможность перейти в другой массив леса. Прежде всего мы
собрались в кучу и жадно стали курить "из
рукава".
Смотрела я на своих товарищей, на их усталые,
потемневшие от холода и внутреннего напряжения лица. Все улыбались,
счастливые.
Я, как сейчас, всех
вижу.
Леонид Балашко - мой двоюродный брат, всего
на год старше меня, еще мальчишка, но высокий и плечистый, могучего
телосложения. Карие глаза его почему-то смотрят на все с
удивлением...
Иван Шелегов - наш разведчик,
светлобровый и сероглазый, с волосами, отливающими желтизной спелой
пшеницы, смешливый до невозможности...
Костя
Бондаревич - мой одногодок и большущий школьный друг "командующий"
нашей детской армией, черноглазый и чернобровый красавец, настоящий
богатырь, словно сошедший с полотна Васнецова, весельчак, школьный артист и
первый станьковский поэт...
Михаил Бондаревич - его
родной брат, старше Кости на 7-8 лет, маленький, тонкий и стройный, всегда
подтянутый и до скрупулезности аккуратный. С хитринкой и лукавым огоньком
в темных глазах, он выглядел, пожалуй, даже моложе Кости, этот
необыкновенный "форсун и женолюб, но добрый малый", как его звал наш
скромный Аскерко...
И еще моя двоюродная сестренка
Нина - нежная, с крошечными "барскими" ручками (и откуда бы им взяться!),
но в то же время едкая и колючая. Иван Воробьев все время рядом с ней,
предупреждает каждое ее желание: то переменит ей портянки, то укроет своим
полушубком...
Иван, Иван! Красивый парень, брови
черные вразлет как крылья, ум и мечтательность в серых глазах, какая-то основательность, надежность в ладной, коренастой, навечно загаданной
фигуре.
Навечно загаданной... А вот не получилось.
Ненамного он пережил войну...
Им обоим тогда было по
18 лет.
Стоит неотступно передо мной эта незабываемая
картина: сидим мы все на корточках и курим, забыв на время о всех невзгодах,
опасностях, потерях, не ведая, что еще нас ждет впереди. Только один из всех
зло и непримиримо косит в сторону цыганскими глазами - Николай
Веселовский. Такие люди, как он, я убедилась, остаются неизменными в своей
сути. Трудно мне было понять, как это в нем мог уживаться и храбрец, и волевой
командир, и подлый, мстительный человек.
Ему бы хоть
частицу сердца Аскерко! Вот и неказист он как будто, и мал, и ничем не блещет
наш командир роты, а почему таким сильным, надежным, привлекательным
выглядит он рядом с красавцем и силачом
Веселовским?
- Ну, дочка, отвела душу? -
обращается ко мне Аскерко. Да, да я отвела душу, тут и отвечать, мне кажется,
не надо.
- Что же, товарищи, подкрепились, пора и в
путь,- говорит он уже другим тоном.- Перейдем сейчас болото и - в лес, а
там к деревне Большая Уса. Через нее двинем к цели, на копыльские
земли.
Когда я поднялась с земли, возникло странное,
никогда не изведанное ощущение - я не чувствовала своих ног. Боли не было.
Была тяжесть какая-то, чужеродность. Правда, я не испытывала тревоги,
пожалуй, потому, что у меня всегда было больше, чем необходимо, уверенности
в себе. Что там тревожиться: все пройдет, все образуется, со мной ничего не случится!
Конечно, неприятно сейчас: ноги при первых
шагах как прямые палки, точно на протезах (это уж потом я сравнила).
"Ничего,- думала я,- пойду, согреюсь, и ноги отойдут". Идти было трудно,
как будто я разучилась переставлять ноги. Приходилось с усилиями делать
следующий шаг, собирая всю волю.
Аскерко, видимо,
заметил, что мне трудно идти, и предложил взяться за его ремень. Я крепко
уцепилась за него, и вроде бы стало легче. Но долго идти так было неловко и
перед товарищами, и особенно перед Аскерко. Я пошла самостоятельно. Шла и
чувствовала "деревянность" своих ног. Но думать о них было некогда, главное
- идти, идти вперед вместе со всеми, не отставать. Мы пошли краем
леса.
О еде никто не говорил, мне же нестерпимо
хотелось пить. Губами я хватала снег с веток елок. Жажда чуть утихла, но голод
и усталость давали себя знать все больше и больше. Перед нами открылось
заснеженное поле, за ним темнел долгожданный лес. Трудно досталось нам это
поле - замерзшее болото. В небо то и дело взвивались ракеты, освещали нас.
Все кругом видно, "хоть иголки собирай". Осветят - и тут же пулеметный
огонь. Мы прямо "вмерзаем" в снег. Опять еще более густая и вязкая темнота.
Снова пошли, подгоняемые командой Аскерко. Ракета - бряк о землю. Легли.
Застыли. Кажется и дыхание очень громким, слышным, опасным. А пулеметы
так надсадно въедались до самого дна души, толчками, толчками били откуда-то
сзади.
Мы уже выбивались из сил. Это поле, длиной в
полтора-два километра, мы преодолевали часа три. Пожалуй, больше лежали под
огнем, чем шли и ползли. Бесконечно длинный путь, может быть, самый
длинный в моей жизни!
Вот и первые деревья - мы
просто не могли поверить, что болото кончилось. По лесу шли гуськом - след в
след. Здесь уже было спокойно, но Аскерко все время направлял вперед
разведку.
Посыпал небольшой, легкий снежок. Как
наступил полдень, мы не заметили. Расположились отдохнуть, даже нарезали
лапника. Снова курили "в рукав" и временами по очереди
дремали.
Я почему-то не могла уснуть. Сон не шел ко
мне.
Аскерко сунул мне кусочек хлеба. Я съела: укусила
два-три раза, и все. После уткнулась головой в полушубок Аскерко и сразу
уснула.
Сколько проспала, не знаю. Кто-то легонько
толкнул меня в бок: "Пошли". Шла, ни о чем постороннем не думая, забывая и о
ногах. Показалась деревня, по приметам это была Большая Уса. Деревня эта со
всех сторон окружена лесом, в логу, как на дне огромной тарелки. Мы
остановились на опушке.
Аскерко
скомандовал:
- Добровольно три человека - в
разведку.
Какой-то момент молчание. Меня изнутри
словно что-то подтолкнуло, и я шагнула вперед.
- Я
пойду.
Рядом молча встали двое ребят: Чугаевский и
Валентин Пекарский.
Втроем мы двинулись к деревне.
Ребята остались на кладбище, а я вышла на улицу. В случае чего, мне было
безопаснее: наган спрятан под пальто - ничего не видно, а у ребят -
винтовки.
В деревне тишина, никого не видно. Ни
огонька, ни звука. Мы вернулись и доложили Аскерко, что через деревню
пройти можно.
За Большой Усой снова лес. Идти мне
становилось все труднее и труднее. Какой-то туман застилал глаза. А тут еще
стало мне мерещиться. Иду вместе со всеми - я уверена в этом, а вижу:
навстречу наши разведчики, но среди них нет Марата... А вот разведчики
"Боевого", среди них Цибульский. А где же
Райкович?
Ребята все в белых маскхалатах, лошади в
белых попонах. Спрашиваю:
"А где Марат? Где Саша
Райкович?"
"Они остались в старом лагере",-
отвечают мне.
"А, ну так я тоже пойду в
лагерь".
...Вот так я пошла за
миражом.
Меня никто не остановил; наверно, и не
заметили вначале моего исчезновения.
Всю ночь я
плутала по лесу одна в сопровождении своих видений. Сознание то прояснялось,
то снова как в тумане.
Надо полагать, что шла я
медленно, донимал холод, и потребность обогреться вызывала в сознании
желанные картины: вот вхожу в дом лесника Лукашевича (уже ни его, ни семьи
к тому времени не было в живых - всех расстреляли фашисты), и жена
Лукашевича предлагает мне лечь в кровать под одеяло и поспать. Я откидываю
одеяло... Что за наваждение: я стою в снегу выше колен под пушистой и
заснеженной елью и тяну к себе одну из ее мохнатых
лап.
...Выбираюсь из снега, иду дальше - не знаю куда.
В лесу посветлело, явно наступило утро, вставало солнце; небо на востоке
становилось багряным.
Я шла по лесной просеке и
только подумала, что надо свернуть в чащу, а то, не ровен час, напорешься на
карателей, как передо мной выросла живая цепь фашистов. Вижу каждую
морду... Боже мой, узнаю этого гестаповского офицера, который арестовал маму
и бил меня.
Как прорваться через эту зловещую стену?
Или лучше незамеченной повернуть обратно? Нет! Пойду прямо. Иду, они все со
страхом отодвигаются, а этот "мой" капитан наконец перестал улыбаться
(перестал все-таки!) и кричит дурным голосом. Пятятся мои преследователи,
расступаются, бегут, исчезают...
...Это было последнее
мое видение. Я вышла на заснеженный луг, где в больших стогах было сметано
сено. Решила, что здесь можно хорошо выспаться. Сознание возвращалось ко
мне и подсказывало, что все эти видения от бессонницы и большой физической
усталости.
Я подошла к одному стогу. Залезть наверх?..
Если кто-нибудь приедет за сеном, начнет брать сверху. Не годится. Лучше
забраться в середину. Сделала себе нору, закрыла "дверь" сеном. И через минуту
спала мертвецки.
...Проснулась оттого, что отлежала
руку, и услышала чьи-то голоса. Сижу в своем укрытии, ловлю слова:
белорусские, наверное, колхозники. Разговаривают. Сердце затрепыхало, жду.
Долго ждала. Потом долетело: "Но-о-о!" - и скрип полозьев по снегу.
Переждав немного, перевернулась в своей норе на живот, прикрыла сеном
голову и выглянула на "улицу". Удалялись две пароконные подводы с сеном,
рядом с возами шел дядька в крестьянском полушубке, а позади него - три
женщины.
Успокоенная, я снова поудобнее устроилась в
своем "доме" и стала досыпать. Проснулась уже ночью (а может, вечером-
часов-то у меня не было). Я отогрелась, даже распарилась в сене, да и на улице
потеплело. Хотелось есть. Надо идти, что я здесь высижу? Ноги вроде в порядке,
отогрелись, думаю. Бурки, кажется,
подсушились.
Вылезла из стога и, как только встала на
землю, поняла: с ногами все то же - не чувствую их. Чужие. "Ладно, ладно,-
уговариваю себя, - надо идти". И думать не думала, что могло случиться
непоправимое. Пошла в лес, на то место, откуда вышла на луг. Ночь ясная,
звездная, небо чистое, как в августе. Тишина лесная, особенная, когда и веточка
не шелохнется. Куда идти, в каком направлении - не знаю. Днем по солнцу
смогла бы определить, по звездам не умею.
Решила идти
все прямо и прямо, выбрав определенное направление вправо от себя; и, мне
казалось, я буду двигаться на запад, именно туда, где я отстала от ребят. Куда-нибудь да приду. Тем более, что мне слышался там вдалеке вой собак,
заунывный, тягучий, печально-истошный, но глухой - до села далеко. Я даже
обрадовалась этому вою: ну да, как же раньше не догадалась - сено-то повезли
в этом направлении. Не потерять бы: так и надо идти на этот вой - там жилье,
люди, там можно поесть...
Шла я медленно, ноги не
слушались и утопали в мягком снегу, шла по бездорожью, зная, что так лучше.
Ни конца ни края лесу. Наверное, только за полночь вышла на заброшенную
лесную дорогу. Осмотрелась и заметила в ельнике какой-то огонек. Один...
второй... третий... Маленькие огоньки, как от папиросы, но цвет не такой, а
синий, словно от светлячков, мерцающий. Огоньки то сливаются, то путаются и
расходятся. Одни зеленовато-синие, другие синие с краснотцой, а то и совсем
какие-то светло-голубоватые. "Кто-то курит... Может, партизаны..." Я пошла
вперед по дороге, огоньки двинулись следом за мной. Я посматриваю на них, и
мне становится по-настоящему страшно: это же волки!.. Останавливаюсь -
останавливаются огоньки. Потом уже явственно вижу: через дорогу впереди
меня перешли два волка; я теперь окружена ими. Что же делать, что делать?
Съедят они меня, и никто знать не будет.
Судорожно
начала вспоминать все, что знала, читала, слышала о повадках волков и как
можно от них спастись. Все зависит от волчицы - она у них вожак, так,
кажется. Не надо только убегать, да и куда тут убежишь! Волки боятся огня (где
я его возьму?). Они чуют порох (у меня наган). Баба Мариля говорила, что есть
заклинание от волков (ах, почему я не спросила, какое!). На всякий случай
твержу про себя: "Волки, я вас не трогаю, не трогайте и вы меня. Не трогайте, не
трогайте, прошу вас!" Есть же, есть сказка о Красной Шапочке? Что же там
происходит? Вдруг все забыла. Надо не останавливаться. Надо идти, идти. Тогда
они тоже пойдут рядом. Они сытые, наверное, сейчас война, им хватает
добычи... Я иду ровным, небыстрым шагом. Наган доставать не буду. Уж только
в крайнем случае... Я успею его выхватить.
...Волки
сопровождали меня почти до утра. Шли, наклонив головы, как заговоренные.
Может, я и в самом деле их заговорила... Только не останавливаться, только не
останавливаться и не бежать. Не обращать внимания, как будто их вовсе нет. Я
уже стала "привыкать" к ним: волки - ладно, не встретились бы фашисты. Тут
уж спасенья не жди!
Перед рассветом волки стали
отставать, отставать, потом и вовсе исчезли.
Я снова
осталась одна.
Опершись на ствол сосны спиной, я
постояла, потом тут же опустилась и сидела так долго, отдыхая. Солнце
поднялось высоко, и, определив юг, я пошла в этом
направлении.
Через несколько часов, заметив между
сосен женщину, пошла ей навстречу и сразу узнала - это Геня, наша партизанка, работала на кухне вместе с Васей Давыдовым. Она появилась в отряде уже
после меня, бежала из минского гетто. А сейчас, как и я, отбилась от
своих.
Геня грызла сухарь и, увидев меня, залилась
слезами. Она не знала ни дороги, ни леса - ничего, ей было еще хуже, чем
мне.
Поймав мой голодный взгляд, она отдала мне
остаток сухаря. Я не могла говорить: с жадностью, какой никогда не знала за
собой, чуть не обламывая зубы о черствый, как кость, сухарь, откусывала,
жевала, судорожно заглатывала непрожеванное. Геня молчала, наблюдала за
мной, не вытирая слез, и вдруг улыбнулась: так, наверное, я была смешна. Ко
мне вроде бы вернулись силы. Я "запила" сухарь пригоршнями снега, беря его с
лапника, и почувствовала себя бодрее. Геня смотрела на меня с
надеждой.
Как важно, когда ты кому-то нужна, когда от
тебя ждут помощи!
- Идем, Геня, на юг. Там должна
быть деревня,- сказала я так, как мог это сказать
Аскерко.
Как Геня поверила мне, какой надеждой
сверкнули ее глаза! Идти вдвоем, быть рядом с кем-то - какое это счастье! И
сил прибавляется, тем более, если ты чувствуешь себя командиром. А я уже (так
получилось само собой) приняла команду над Геней. И чудо! Мы вышли к
деревне. Видна была улица, а по ней никакого движения. Зашли в крайнюю
избу; пол земляной, на скамейке сидит женщина, вид у нее не лучше нашего -
худая, изможденная,- рядом с ней мальчик лет пяти-шести.
Женщина осмотрела нас потухшими глазами,
безразлично выслушала и таким же бесцветным, глухим голосом посоветовала
пойти в соседний двор: там живет бывший колхозный бригадир, у него что-нибудь еще водится в хате, да и человек он не злой,
поможет.
Зашли мы в соседний дом. Действительно,
приняли нас там радушно, как своих, ни о чем не расспрашивали, посадили за
стол (было как раз время обеда), накормили белорусским борщом, тушеной
картошкой с молоком и мягким, пахучим хлебом. Не знаю, то ли Генин сухарь
тому виной, но ела я мало, а скорее всего, боялась есть с голоду. Геня тоже
немного перекусила и сразу упала на лавку, а через минуту уже
спала.
Мне спать не
хотелось.
Именно тут я решила осмотреть мои ноги и
переобуться. Начала снимать бурки - не могу, не стягиваются. Подошла
хозяйка с крестьянскими жилистыми руками труженицы, попробовала стянуть с
меня бурку - тоже не получилось. Дед, седой, с козлиной бородкой, засунув
пальцы в голенище, прошамкал:
- Э, да тут разрезать
надо, так не снимешь!
Взял нож, распорол сукно бурок
по шву до самых пальцев. А потом уже мы вдвоем с дедом отрывали сукно от
чулок, а чулки от тела. Ноги выше щиколоток и все стопы белым-белы, как
присыпаны пудрой. Потрогала руками - не чувствую. Что же это с моими
ногами?
Вот тут впервые у меня к горлу подступил
страх, может быть, хуже, чем в лесу, когда за мной неумолимо шли
волки.
Хозяйка вышла во двор, принесла в тазу снег, но
не стала почему-то растирать мои ноги. И дед не стал. Очевидно, все поняли, а я
еще не в состоянии была оценить свое настоящее
положение.
Я попробовала растирать ногу снегом, но
самой это делать неудобно. Время шло, и хозяйка, посмотрев на часы-ходики,
стала просить нас уйти, объяснив, что к трем часам дня обещали заехать
полицаи. Мне показалось, что нога, которую я терла на подъеме, порозовела.
Пальцы тоже уже не были такими белыми, как несколько минут назад, а
подернулись серинкой и стали чуть синеватыми.
Делать
было нечего, надо уходить. А что обуть, где взять хоть какую-нибудь
обувь?
В доме ничего не могли предложить, кроме
лаптей, которые уже никто в наших краях не носил. Я их видела когда-то только
у деда Якуба да у Опорожа.
Хозяйка принесла с чердака
лапти, белые льняные онучи и толстые чулки своей вязки. Дед сам обул меня,
переплел до коленок поверх онуч мои ноги веревочками и все приговаривал, что
так будет лучше: и мягонько, и тепленько, и
легонько.
Это было 12 января в деревне Жирмоны,
совсем недалеко от деревни Усы. Значит, я далеко не ушла, хотя побродила
порядочно. Теперь я хорошо знала, куда и как идти. До ворошиловской бригады,
конечно, мне не дотащиться на таких ногах. Выход один: вернуться в
станьковский лес, в свой старый лагерь, и ждать разведку из отряда, которая, как
обещал Егоров, будет разыскивать
"заблудших".
Обидно и горько: наверное, только мы с
Геней такие растяпы! Небось и в лагере, кроме нас, никого не
будет.
Но теперь уж горюй не горюй, а выхода другого
нет.
Нужно проделать путь от Жирмон до Усы, затем на
Ляховичи - и в наш лес. В общей сложности получалось около 30
километров.
Геня немного поспала, пришлось ее
разбудить. Я поделилась с ней своим планом, и она согласилась возвратиться в
наш лагерь.
Очень уж она была несчастна, запугана, да
и неудивительно: в гетто она насмотрелась на такие ужасы, что и в кошмарном
сне не приснятся. Там она потеряла мужа и двух малых детей. Невероятным
чудом ей удалось спастись самой и добраться до
партизан.
Теперь страх не оставлял Геню ни днем ни
ночью.
Мы распростились с хозяйкой и дедом. В дорогу
они сунули нам по куску хлеба и несколько
картофелин.
Шли мы по целине, вытягивая ноги из
глубокого снега. Отдыхать приходилось через каждые 500-600 шагов. Только к
вечеру, когда уже стемнело, мы дотянули до огородов деревни Уса. У крайней
хаты разглядели землянку-баню. Из нее вышла женщина, в открытую дверь
повалил пар. Мы спрятались рядом за глухой стеной бани, подождали еще.
Вышла другая женщина, с ребенком на руках, в накинутом платке. Она закрыла
дверь бани палкой, заложив ее в ручку щеколды.
Я
подошла, открыла дверь - там тепло, но очень парно. Мы подержали дверь
открытой - выпустили пар, проветрили, закрылись изнутри той же палкой и
улеглись на полатях.
Все время просыпались,
прислушивались, было тревожно: может, в деревне и полицаи есть. Во всяком
случае, в стогу сена я спала спокойнее.
Из нашего
ночного приюта мы ушли на рассвете и у самого леса набрели на хутор из
одного дома. Сначала мы просто решили разведать, спокойно ли тут, нет ли в
лесу фашистов (через этот лес наш путь лежал в Ляховичи). В хате нас встретила
пожилая женщина; она стояла у русской печи и вынимала ухватом сковороду с
блином. На лавках сидели две девушки лет по 17-18, поразительно похожие
друг на друга, может быть, двойняшки, и перед ними лежала горка блинов. От
всего этого на нас пахнуло чем-то довоенным, давно забытым. Девушки и их
мать рассказали нам, что в Усе есть полицаи, что они все время ставят своих
часовых у леса и контролируют все дороги.
Женщина
пригласила нас к столу и предложила пока остаться в
хате.
Весь день до сумерек мы пробыли
здесь.
Не было никакого смысла скрывать, кто мы и
куда идем.
Когда снимали одежду, я отдала свой наган
женщине, и она спрятала его в мешок с пером на
печке.
После того как мы умяли стопку блинов со
сметаной - неслыханная, ни с чем не сравнимая еда! - хозяйка нас тоже
отправила на печку. Когда я шла, она обратила внимание на мои лапти и
походку. Я сказала, что приморозила ноги. Женщина заставила меня снять лапти
и размотать онучи, посмотрела, покачала головой (и было от чего: ноги мои уже
начали синеть), потом принесла из сеней гусиный жир, смазала ноги и велела
держать их открытыми. Девушки вытащили со двора на улицу козлы и целый
день пилили жерди, приваленные к забору. Пилили не торопясь и наблюдали за
лесом и дорогой к нему.
Целый день мы "прожили" на
печи. Геня, с небольшими перерывами, ела и спала. А я, полусидя, смотрела на
свои ноги, пытаясь шевелить пальцами: они были почти недвижимы, только
чуть-чуть шевелились в голеностопном суставе. На коже кое-где появились
волдыри. Боли по-прежнему не было, особенно когда я
лежала.
Трудно припомнить, о чем я тогда думала.
Скорее всего, о Марате. Мною владело только одно желание - скорее вернуться
на базу. И еще: найти обувь, чтобы снять лапти.
Под
вечер сестры сообщили, что несколько полицаев уехали на подводе в Усу и
теперь около леса никого не видно. Снова я вырядилась в свои лапти, нацепила
наган с ремнем под пальто, и мы пошли.
Вот и опять мы
расставались с людьми, рисковавшими ради нас, совсем незнакомых, своей
жизнью. Они ведь даже имен у нас не спросили. А рядом рыскали полицаи и в
любую минуту могли заглянуть на хутор. Тут уж добра было ждать нечего: в
лучшем случае - арест, допросы, розги, в худшем (и чаще всего) за укрытие
партизан - расстрел. Сколько еще их было на моем пути, таких удивительных
людей! Как я жалею теперь, что не всегда могу вспомнить их фамилии, имена, да
и чаще всего они не называли себя. Но никакие годы не могут изгладить их из
моей памяти. Они живут в моем сознании, как самые близкие и родные люди.
Мир им на земле и вечная память в сердцах! Без них не было бы ни партизан, ни
такого широкого сопротивления врагу, как тогда в
Белоруссии.
В лесу мы сразу же попали на просеку
телеграфной линии. Она была оборвана, столбы валялись тут же или были
сожжены. Наверняка это была работа наших ребят. Просека вела напрямки к
Ляховичам. А там мой дядя Саша, нередко выручавший меня из многих
бед.
Километра через два из лесу на просеку вышел
человек. Это был не полицай, а "доброволец" - из местной добровольческой
дружины. Была среди предателей и такая разновидность. Они, собственно,
ничем не отличались от полицаев, только форму не носили. Геня сразу
затряслась вся и заныла. Я цыкнула на нее, велела быть смелее и "держать
слезы". Что уж там будет, посмотрим, а сейчас не скроешься, "доброволец" нас
заметил. Свернуть в лес - вызвать подозрение, повернуть назад - еще хуже.
Мы пошли прямо на него.
Поравнялись с
"добровольцем". На рукаве его полушубка-фашистская повязка. Взглянул на
нас цепко, подозрительно, спросил, кто мы, откуда и куда
идем.
- А из Станькова мы,- весело сказала я, как
хорошему знакомому.- В Жирмонах мы были у родственников. Рождество
справляли.
Но "доброволец" никак не отозвался и на
мою веселость и на мою доброжелательность к нему. Он тупо продолжал задавать вопросы:
- Когда из Станькова
ушли?
- Дней семь или
восемь.
Он пожевал губами, сощурив
глаза.
- Документы
есть?
Господи, нет на тебя бабы Марили, паразит,
предатель, гад! Пропади ты пропадом, провались в тартарары... Чтоб тебя гром
убил...
- Где же у меня документ? - невинно
говорила я, улыбаясь.- Вы что, дяденька, не видите? Малая я еще. До войны
паспорта у меня не было - тогда еще шестнадцати не было. А золовка моя свой
забыла в Станькове.
- Нашла время забывать. А я вот
возьму да стрельну ее, а? Может, она партизанка?
-
Она? - переспросила я, захохотала так весело и громко и все показывала на
перепуганную, дрожащую Геню.- Да разве такие партизаны бывают? Уж лучше
скажите, что я партизанка.
- Ладно, едрена вошь...-
"Доброволец" засомневался, поскреб в затылке, самодовольно заулыбался.
Честное слово, ему нравилось, что Геня его так боялась.- Она забыла, ладно...
А ты?.. Немецкие власти, у кого паспортов не было, аусвайсы
выдавали.
- Ах, аусвайс! - вскричала я.- А вот он у
меня.
Надо же: я давным-давно забыла о нем. Еще в 41-м году я получила его в Станькове, уходя в Минск, взяла с собой. Там часто
проверяли документы, и, уходя из дому в столовую, я держала его за обшлагом
рукава пальто, чтобы долго не искать. Так я с ним и пришла в партизанский
отряд.
Помню, однажды в землянке все его
рассматривали, а кто-то посоветовал мне "выбросить его к черту". Я сказала, что
он мне не мешает, пусть себе лежит, снова положила за обшлаг и совсем
забыла.
Геня на меня смотрела с удивлением и страхом,
думая, как после выяснилось, что я решила застрелить "добровольца". Чтобы у
меня оказался этот чертов аусвайс, ей в голову прийти не
могло.
Я вынула из-за обшлага эту порядком
истрепанную бумажку и подала. Он читал, шевеля губами, видно, был не большим грамотеем.
- То-то,- сказал удовлетворенно,-
всегда при себе документ должон быть, а то попадешь на другого, он тебя ч-чик,
и все тут. А ты тоже не забывай паспорта. Скажи спасибо, что на меня напала, да
что я со вчерашнего дня добрый, а то...
Он не стал
досказывать, но нам и без того стало ясно, что бы он
сделал.
Спасибо тебе, лопух! Правду у нас в Станькове
говорили, что "добровольцами" становились кретины и
недотепы.
Мы шли не торопясь, боясь оглянуться, а
очень хотелось.
Ну и ну, везет же мне все-таки, что там
ни говори!
Геня немного успокоилась и тоже, несмотря
на темноту, пыталась рассмотреть мой аусвайс, очевидно, не поверив, что он
настоящий.
- Я была уверена, что ты сунула ему
какую-то бумажку, а сама хотела стукнуть его из
нагана.
- Что ж, и стукнула бы, да только надобности
в том не было.
Дядя Саша, как всегда, встретил нас
очень сердечно. Геня поужинала и опять спать на
печку.
Я сидела с дядей Сашей, разутая, и он меня долго
и даже сердито убеждал остаться:
- Скажи этой
здоровой тетке, пусть идет в отряд и расскажет, что с тобой, а сама останься
здесь. Мы тебя спрячем, найдем врача, он вылечит тебе ноги. Вот поправишься,
тогда снова можешь идти в свой отряд.
А как я могла
сказать Гене такое: иди в холод, голод, в опасность, а я останусь в тепле и на
чьем-то хлебе. Эта 35-летняя женщина представлялась мне абсолютно
беспомощной.
Дядя Саша говорил, что с такими ногами
я никуда не гожусь. Во-первых, гожусь, а во-вторых, я и мысли не допускала,
что может быть еще хуже. Сейчас я вполне могу ходить. Все заживет, все будет
"в лучшем виде", как говаривал Аскерко.
Да и как я
могла не выполнить приказ начальника штаба отряда - любыми способами
добраться до ворошиловцев или, в случае неудачи, вернуться в прежний
партизанский лагерь? Конечно, я должна туда вернуться, тем более что теперь до
него рукой подать. Я вернусь, ноги заживут - на мне все всегда заживает, - я
буду по-прежнему ходить на задания с ребятами.
Ночью, впервые за столько времени, я по-настоящему вымылась, сменила лапти на красноармейские ботинки сорокового
размера (хотя носила тридцать пятый, но ничего, намотала портянок - так
теплее), взяла мешочек с табаком, который дядя Саша крошил из листа самосада
почти целую ночь "на всех", Геня взяла другой мешочек с едой, приготовленный
тетей Надей. Дядя Саша провел нас за околицу, и мы снова по целине пошли к
уже совсем близкому и такому родному лесу - к нашему
лагерю.
Прямо "на секрете" встретил нас Бронислав
Татарицкий - наш партизан, чудесный парень, весельчак и шутник, "здоровый,
как медведь, и храбрый, как лев", по всеобщему мнению, которое утвердилось в
отряде.
- Что с тобой, Ада? - обеспокоенно спросил
Бронислав.- Ты заболела?
- Да просто устала.- Мне
было так хорошо, так радостно, что я искренне поверила в свои
слова.
Наш лагерь почти весь был разрушен карателями,
они здесь побывали и похозяйничали, как только могли. Но ребята сумели
быстро восстановить одну землянку из семи. Мешок муки и мешок картофеля,
запрятанные в условленном месте, немцы не нашли; и хотя картофель был
мерзлый, Геня тут же приступила к своим поварским
обязанностям.
На следующий день я тоже включилась в
Генину команду, стала готовить на всех обед, а обмороженных перевязывать. Уж
чем мы их перевязывали - богу одному известно. О своих ногах я и думать
перестала. Немного только кружилась голова -
подумаешь!
В этот день меня прямо захлестнула
радость. Ребята сообщили- Марат жив! Жив, и даже осколочек его не тронул,
только немного завалило землей и снегом. Вышел он из окружения
самостоятельно, встретился с Татарицким, Тобияшем и Сорокой в какой-то
деревне, и они велели ему идти в Добринево и дожидаться у связных, пока за
ним приедут.
Я не верила, просто не могла
поверить.
Но ребята в доказательство тут же сели в свой
расписной "возок", пообещав привезти Марата.
В
вечеру Марат был в лагере. Вот оно, чудо из чудес: нашелся мой головастый
синеглавый братище... Жив и здоров. Ура!
Мы с ним
целовались, обнимались, смеялись: радость-то какая! Он думал, что меня нет в
живых, а уж что передумала я за эти длинные дни и
ночи!
Потом радость улеглась, я как-то быстро
привыкла к ней.
16 января вечером я разулась, сняла
чулки; ноги еще больше потемнели, а чуть выше голеностопного сустава -
волдыри шириной сантиметра в два-три.
Я попросила
Нину Лошаеву посмотреть на мои ноги, она потрогала (такой же "медик", как
я).
- Волдыри какие-то,- окая по-горьковски, сказала
она.- А под кожей водичка переливается.
Сорви,
Ниночка, эту кожицу сверху,- попросила я,- вода вытечет, а то мешает
ходить.
Легко и безболезненно, вдвоем, мы оборвали
кожицу с этих колец - волдырей на обеих ногах. "Водичка" вытекла, а под ней
сине-красное мясо.
Нина помазала раны гусиным
жиром, который я прихватила от дяди Саши из Ляховичей, перебинтовала
настоящим стерильным бинтом (у нее сохранился индивидуальный пакет). Я
обулась и снова была "в полном порядке".
В этот же
вечер наш командир с двумя парнями послал меня на задание в
Станьково.
Задание было несложное: зайти к фельдшеру
Русецкому и получить медикаменты и перевязочный материал, попутно забрать
и привезти в лагерь моих землячек - жен командиров рот Аню Кривицкую и
Олю Бондаревич. В первую же ночь, когда нас окружили каратели, они сумели
пробраться домой и прятались там от фашистов. Кроме того, надо было проведать больных партизан Буцевнцкого и Сетуна, узнать, каково их "моральное
состояние".
Мы запрягли лошадь (уже и лошади были в
лагере) и ночью тронулись в путь. Парни мне подчинялись, не перечили, тем
более что не знали дороги и расположения деревни. Проехали наш заброшенный
домик... Зашла к подружке Нине, спросила, есть ли поблизости гитлеровцы.
Оказалось, есть. Они стояли в имении, которое мы не успели поджечь. Были там
и литовцы. Рассказала Нина и такую историю. Когда началось окружение
партизан, были собраны все партизанские семьи. Немецкий офицер приказал
подразделению литовцев расстрелять их. В самый последний момент офицер-литовец вышел перед строем обреченных на смерть и заявил, что литовцы не
будут убивать женщин, стариков и детей. Ни один литовец не выстрелил. Казнь
не состоялась. Офицера-литовца расстреляли.
Еще я
узнала, что фашистами были зверски изуродованы и убиты наши станьковские
девочки Вера Пекарская, Шура Барановская, сестры Вера и Лида Врублевские и
мой однофамилец Иван Казей. Много было Казеев в Станькове, очень много, но
после войны их убавилось наполовину.
Задание мы
выполнили, хотя и не на "сто процентов". У Русецкого, кроме склянки риваноля
и двух бинтов, ничего не осталось. Никаких пополнений он давно не получал. Да
и откуда было получать!
Сетун и Буцевицкий уверили
нас, что как только встанут на ноги, одна у них дорога: обратно в лес, к
партизанам.
Аню и Олю мы взяли с собой. Обе они
сидели по своим домам в подполах и были рады-радешеньки своему избавлению
и тому, что их не забыли
Заходила я и к своей бабе
Мариле. Она не только не ругалась, а плакала и просила меня остаться: я шла по
ее хате, держась за стены. Ребят она накормила, а я есть не могла - так мне
стало не по себе. Ноги не болели, я их по-прежнему не чувствовала, но была
слабость и кружилась голова.
Я легла в сани, никому
ничего не сказав. Мне совсем стало худо.
В лагере Аня
и Оля спрыгнули с саней и помчались в землянку. А я сижу в санях и не могу
двинуться. В буквальном смысле на четвереньках доползла до землянки,
толкнула рукой дверь... и все исчезло в мраке и
звоне...
Очнулась на руках у Бронислава
Татарицкого.
Коллективно мерили мне температуру
(Маршал со своей командой добыл и привез ящик немецких медикаментов, но
никто и понятия не имел, что это за лекарства. Не было там ни бинтов, ни ваты,
но зато отыскался термометр). Температура у меня оказалась высокой - около
сорока. Напоили чаем с малиной (благо ее полно в лесу, да и про запас
партизаны сушили), уложили на сено, и я уснула совсем спокойно - дома
же!
На следующий день проснулась как ни в чем не
бывало - здоровая. Снова чистила картошку, девчата с Геней варили какую-то
похлебку.
Под вечер пришла разведка из штаба отряда.
Вот уж радости было!
А ночью на лошадях уезжали с
разведкой все, кто мог. Уезжал и Марат. Я кутала его шею, подвязывала
поудобнее косынку на больной руке. Он стеснялся, оглядывался по сторонам - не смотрят ли на нас, но не сердился, приговаривая:
-
Что ты, Адок, кутаешь меня, как маленького... Господи, я чувствовала себя такой
взрослой, такой умудренной опытом, словно это вовсе и не я, а мама снаряжает
Маратика в путь-дорогу! Я наставляла его не ехать на запятках саней-возка, как
он собирался: разве удержишься одной рукой, на ухабе занесет возок, ударит об
дерево - убьет. Попросила девчат потесниться и дать ему
место.
Я оставалась в лагере с ребятами
Маршала.
Он уговаривал меня уехать вместе с
разведкой, но я стояла на своем: надо отправить больных и раненых, а мне не к
спеху, все вместе уедем со следующей разведкой.
Дня
через два-три я снова упала и больше уже не поднималась.
Я лежала на земляном полу на ворохе соломы.
Дней пять или шесть за мной ухаживали, как няньки, Бронислав Татарицкий и
Володя Тобияш. Добрались в лагерь еще несколько обмороженных, но одни из
них кое-как передвигались, другие прыгали хоть на одной ноге, а я теперь даже
ползать не могла. Вот когда невыносимо стали болеть ноги! Володя и Бронислав,
видя, как я корчусь и мотаю по соломе головой, решили снять с меня валенки.
Но боль адская - начнут тащить валенки, а я ору.
В это
время к нам в землянку пришел Виктор Путята - радист из группы
Ильича.
(Неподалеку от нашего лагеря базировалась
группа армейской разведки Михаила Ильича Минакова, та, которая в составе
группы "Джек" позже -в 1944-1945 годах -так героически действовала в
Восточной Пруссии. Об этом написал книгу Овидий Горчаков, и по его же
сценарию поставлен кинофильм "Вызываем огонь на себя". Радист Виктор
погиб именно там, в Восточной Пруссии.)
То, что не
удалось Брониславу и Володе, почему-то получилось у Виктора: он смотрел мне
неотрывно в глаза, легонько тянул за валенок и уговаривал словно
маленькую:
- А ты о другом думай! Вот увидишь,
больно не будет. Ну разве больно? Давай отдохнем, давай сделаем перекур!
Слышь, хлопец, дай ей закурить. Во-о-от, по-о-шли! Вот и
все.
Действительно, валенок стянули, затем и другой.
Сняли чулки. На том месте, где мы с Ниной оборвали с волдырей кожу, широкой
полосой вокруг ног шла глубокая рана. Стопы совсем почти черные и уже
немного ссохшиеся. И это были мои ноги!
Перевязать
нечем, скудные наши запасы я сама же истратила на других раненых и
обмороженных. Виктор сбегал в свою группу, принес бинт, немного ваты и
марганцовки в порошке. Развели густой раствор, промыли им раны и перевязали.
Скоро пришла новая разведка из отряда. Укутали
меня в полушубок, в чей-то теплый платок, запеленали, чем могли, мои ноги, и
мой земляк, здоровенный и очень славный парень- Миша Кривицкий -
бережно поднял меня на руки, вынес из землянки и уложил на сани с
сеном.
Ехали мы долго. Кажется, одну ночь и часть дня.
Ночью часто останавливались в деревнях. В одной из них у меня уже появилась
под головой подушка и на ногах старое ватное одеяло. Я то теряла сознание, то
снова приходила в себя. На остановках очень трудно было вносить меня в дом, а
потом снова нести в сани.
Нужно было поднимать меня
ровно, не нарушая положения ног. Ребята, милые неуклюжие ребята, делали все,
что могли, чтобы не причинить мне боли, но у них плохо получалось.
Потом кто-то незнакомый мне, в длинном черном
тулупе, по-хозяйски отстранил ребят, один взял меня на руки, приказав ребятам
придерживать ноги, осторожно вынес меня из дому. По его распоряжению Костя
Бондаревич сбегал в соседнюю избу, принес оттуда полмешка овечьей шерсти и
укутал мои ноги.
Днем мы ехали уже по Копыльскому
району, где базировалось много партизан. Нас встречали высланные вперед дозоры.
В деревне Песочное размещался штаб
ворошиловской бригады, в которую и влился наш отряд. Меня внесли в дом,
положили на деревянную кровать.
И начали сплошным
потоком навещать меня партизаны. А стояло там, ни мало ни много, две или три
бригады - уйма народу!
Очень скоро пришел Иван
Максимович Дяченко, начальник медслужбы ворошиловцев, разбинтовал мои
ноги, посмотрел, покачал головой.
- Нужно
немедленно ампутировать,- сказал он, сердито нахмурив и без того грозные,
нависшие над глазами брови.
- Что? Что это -
ампутировать? - закричала я.
- Отнять, дорогая,
ноги, чтобы ты жила.
- Не да-ам! Не хоч-чу!..
- Кто хочет,- спокойно сказал Дяченко,
вставая,- никто не хочет. А надо.- Он ушел, даже не взглянув на
меня.
Возле кровати стояли мой дядя Николай и
Марат.
У Николая катились по лицу слезы, а человек он
был не слабый.
Марат хмурил свой большой белый лоб,
жмурился, как от солнца, и все повторял, держа меня за
руку:
- Адок... Адок...
У меня
не было слез, меня даже раздражали слезы Николая. Была отчаянная решимость:
чтобы я дала отрезать свои ноги? Да никогда в жизни! Любая бабка в деревне
вылечит мне их. Дура я, дура, не осталась у бабы Марили или у дяди Саши с
тетей Надей, уж они-то заживили бы мне раны травами.
- Ну что ты, Николай, разревелся? -
прикрикнула я.- Не дам я резать ноги.
- А
помрешь?
- Не помру. Еще других
переживу.
Я говорила это не просто так, а свято верила
в свои слова.
В этот же день ко мне "подселили"
разведчика из "Двадцать пятого", Пашу Шибко, раненного в грудь, с пробитыми
легкими и застрявшей в них пулей.
Все последующие
дни на остановках в деревнях нас с ним селили вместе: говорили, что мы самые
неунывающие, терпеливые, хотя и "тяжелые".
И правда,
мы с ним шутили, смеялись, а он даже пытался подпевать мне: поет, смеется, а в
груди у него все клокочет, хрипит.
К нам все время шли
и шли знакомые и незнакомые. Подбадривали, сообщали новости, несли
гостинцы.
Неожиданно в одну из ночей Паша умер, а
еще с вечера он был такой веселый... Смерть эта потрясла
меня.
Меня по-прежнему окружали вниманием: каждый
старался сделать или сказать что-то приятное.
Каратели
добрались и до Копыльского района. Началось новое окружение. Гитлеровцы
отозвали с фронта несколько дивизий, чтобы "раз и навсегда покончить с
белорусскими партизанами".
Мы быстро ушли в
деревню Большой Рожан, соединились с еще одной бригадой. Отсюда в начале
февраля меня и еще нескольких "тяжелых" отправили на
аэродром.
Я еду совсем по-барски, на отдельной
повозке, у меня "своя" медсестра Соня и "мой" коновод Вася Мискевич. Проехали мы около 70 километров и попали в новое вражеское кольцо. Здесь вовсю
свирепствовали гитлеровцы.
...Ночью, прорываясь из
окружения, мчались на рысях, сани кренились все больше, а потом и вовсе
перевернулись, и я вывалилась из них. Обоз - на километры, народу - тьма.
Соня и Вася успели меня подхватить, только это и спасло: иначе затоптали бы
кони.
После этого случая стали привязывать меня к
саням веревками по животу и ногам. Вася мчал
вовсю!
Я привыкла к боли и научилась молчать.
Никогда не плакала и даже не ойкала во время
перевязок.
...Потом это произошло прямо в лесу, на
санях.
Обоз остановился. Подошел Иван Максимович
Дяченко и сказал, как будто и не уходил от меня в тот раз из
хаты:
- Давай посмотрим, что там у
тебя.
Соня разбинтовала ноги. Он опять покачал
головой:
- Нет, не дотянуть тебе до аэродрома. Да и
когда он теперь будет? Придется отнимать немедленно, прямо
здесь.
Я не протестовала уже, понимала, что ноги не
заживут, и они мне, мертвые, начали невыносимо
досаждать.
Вася развел костер, Иван Максимович стал
прокаливать на нем ручную пилу-ножовку. Зачем это? Вася распряг лошадь и
отвел ее в сторону.
...Соня крепко взяла меня за руки и
легла мне на грудь.
Что там делал Дяченко, не знаю. Я
плохо соображала.
Вдруг мне показалось, что из меня
начали тянуть и тянуть дли-и-инную, бесконечную боль. Я стала куда-то падать
и повисла на этой боли. Там, наверху, она быстро, как веревка в колодце,
раскручивалась и тянула меня вниз. Это и в самом деле был колодец, я уже
видела в нем почему-то цветную воду. Но вдруг у самой воды медленно
заскрипела колодезная ручка, и уже не веревку, а меня стало накручивать на
барабан. Вверх- вниз, вверх - вниз... Сколько это может продолжаться?.. Но
вот меня выдернуло высоко к самому барабану, боль вдруг оборвалась, и я
тяжело полетела в воду. Она была темной, совсем не цветной... Темной и
горячей...
...Когда я пришла в себя, Соня стояла надо
мной с нашатырным спиртом. Ног уже не было. Не было моих ног. Просто два
обрубка, забинтованные холщовым бинтом. Где же мои ноги? Я их поискала
глазами и ничего не увидела. Метрах в десяти стоял спиной Вася, положив на
круп лошади свою голову.
Все теперь поняла, во все
поверила: я без ног. А живут ли люди без ног? Как же они ходят? Я ничего этого
не знала. Я только поняла, что нет и не будет ног!
Мне
казалось, что у меня вообще в жизни ничего не осталось. Долго, много лет, да и
теперь часто я смотрела и смотрю на женские ноги. Иногда вначале мне даже
хотелось, чтобы все женщины были без ног. Чуть позже я уже смеялась над
своей безрассудной злобой и несправедливым отношением к "ногатым"
женщинам. Ко всему привыкаешь. Эта старая истина не утешает, но со временем
помогает. "С горем надо переспать",- говаривала моя мудрая бабушка Зося. Да,
с горем надо переспать и раз, и два, и три. Я стала проваливаться в сон, как в
спасенье.
Надо было жить без ног, без протезов (о существовании которых Ада вообще
узнала уже после операции), с гнойными болезненными ранами, без бинтов и
медикаментов, без крыши над головой, на санях, колесах, носилках, в шалашах и
под открытым небом, под пулями, в голоде, без мыла, без соли. Жить не день, не
два, не недели, а долгие месяцы.
Особенно угнетали
холщовые бинты: одни - на культях, другие - в стирке. В стирке - без
кусочка мыла... Был, правда, мыльный корень. Научил кто-то из партизан
находить его в лесу, на полянах.
Ада боялась одного: не
стать бы обузой и помехой для всех - такой балласт! Но никогда, никто ни
единым словом или жестом не дал ей этого понять. Даже в то время ей никогда
не приходила мысль о смерти- она хотела жить.
Да,
человек рано или поздно ко всему привыкает, ко всему приспосабливается,
находит поводы для надежды, радуется любому случаю повеселиться. Если он
хочет жить.
Первый шалаш поставили для раненых и
больных в феврале. Роскошный, высокий, с основательным каркасом из бревен,
укрытый, как шубой, еловым лапником, толстым, чуть ли не в полметра слоем. И
тепло, и смолистый пьянящий дух от него.
Но вот в
один прекрасный день основная жердь упала, сорвавшись с развилки, и весь
шалаш рухнул. Это произошло, когда все спали. Аде повезло: стукнуло по
костям (раны ее пошли выше, и торчали оголенные берцовые кости), но не очень
больно.
Она как-то быстро сориентировалась, разгребла
над головой лапник и высунула голову наружу.
И вдруг
ни с того ни с сего напал на нее смех: смеялась от души, взахлеб, как давно уже
не смеялась.
Отовсюду бежали на помощь, кто-то из
ребят кричал на ходу:
- Где
Ада?
Кто-то подхватил ее на руки, отнес в сани, а она
все продолжала смеяться. И теперь еще, стоит ей вспомнить эту историю,
неизвестно почему одолевает смех. Может быть, потому, что никто особенно не
пострадал, а кричали все как безумные.
С тех пор Ада
не хотела больше лежать в шалаше - на санях ей было куда лучше и
спокойнее.
Обычно сани ставили в таком месте, чтобы
ей было видно, кто идет в задание, кто возвращается,- на въезде в лагерь. Тут
же неподалеку был и шалаш разведчиков "Двадцать
пятого".
Возле саней всегда кто-нибудь толкался, Аду и
на минуту не оставляли одну.
Трудно было в Полесье с
продуктами в ту пору. О хлебе партизаны и не мечтали. Ели мучную пресную
похлебку без соли. Все деревни на много километров вокруг были сожжены,
помощь получить неоткуда, а весной и подавно.
Но
здесь партизаны стояли недолго. В марте их снова начали обходить немцы.
Чтобы уйти от них, вооруженных до зубов и остервеневших, нужно было
перейти большое болото среди леса. Переход бригады, в которую теперь входил
и "Двадцать пятый", начался рано утром по подмороженному льду и кочкам. Но
бригада - это не отряд. Масса людей, обоз, раненые, пушки. И трясина не
выдержала. Почему-то в этот день около Ады не было Сони. Ада ехала вдвоем с
Васей, и на самой середине болота лед под лошадью провалился, и она завязла.
Бьет из-подо льда вода, качаются на ней сани. Пока Вася пробовал выпрячь сани
и поднять лошадь, стороной по пояс в воде проходили отряды, поднимая вверх
оружие. А из лесу уже строчили из пулеметов по хвосту
колонны.
- Иди вперед со всеми,- закричала Ада
Васе,- иди, иди, не погибать же тебе из-за меня!
Вася
колебался, но она прикрикнула на него, и он
пошел...
Еще немного... и пройдут последние
партизаны.
Если хлопцы пройдут и не помогут
выбраться, ее живьем схватят враги. Так лучше умереть, не ожидая, когда
схватят и будут издеваться.
Что же, у нее есть наган.
Она вытащила его из кобуры, проверила - все патроны в барабане целы. Для
себя оставит два последних, не один, а два (вдруг
осечка!)...
Лошадь ушла почти вся в воду, торчала
только голова, ее неумолимо засасывала трясина.
И
вдруг совсем близко началась стрельба. Ада видела, как горстка партизан
отстреливалась от десятков лезущих на них немцев. Она тоже стала стрелять по
ним из своего нагана. Пусть уж зазря не пропадают ее
пули.
То ли немцев всех перебили, то ли часть из них
отступила, но она услышала знакомый торжествующий
голос:
- Дали, гады, тягу!
И
снова ей повезло. Среди группы партизан, замыкавших колонну, оказался ее
прежний спаситель Костя Бондаревич. Она узнала его голос и уже потом
увидела его высокую могучую фигуру.
- Костя,-
закричала она что было силы,- я здесь!
- Ребята,
давай сюда,- скомандовал Костя,- это наша девчонка. Это ты стреляла из
нагана, Ада?
Только тут она поняла, что в барабане ее
нагана не осталось ни одного патрона...
Человек
восемнадцать ребят выволокли конягу, попавшую в яму подо льдом, а сани
вместе с Адой вынесли на себе.
Снова
жизнь!
Они вышли из окружения и стали устраиваться
на новом
месте.
НА ПУТИ К БОЛЬШОЙ
ЗЕМЛЕ
Близился апрель. Дни
стояли солнечные и теплые. Бригада прочно обосновалась в вековых лесах
Полесья.
Адины сани сменили на телегу. По-прежнему
Ада спала и жила под открытым небом.
Однажды
ночью, часа в два, вернулись разведчики. К Аде подбежал Илюша Прокопенко и
сообщил поразительную новость: в бригаду едет Саша Райкович! Считалось, что
он погиб еще в январе. Но никто не мог этому поверить ни в "Боевом", ни в
"Двадцать пятом" - уж очень его любили.
Ада и
обрадовалась этой новости, и страшно ей стало. Да он не узнает ее такую:
худенькая, стриженая (Соня срезала волосы ножницами) и... без
ног.
Илюшка любил поговорить не хуже другой
девчонки. Он, конечно же, заметил Адино смятение. Стал как мог
успокаивать.
- Ты знаешь, какой это парень, Сашка
Р"айкович? Когда он узнал, что ты теперь без ног, он послал всех подальше и не
поверил.
Илюша рассказал, что Райкович во время
прорыва попал не в ворошиловскую, а в другую бригаду и все это время был у
них в разведке. Теперь едет оттуда на связь с ворошиловской бригадой. Они
везут груз, их пять человек, к утру будут в лагере.
Соня,
как никто, поняла Адино волнение. Спать Ада, конечно, не могла. С восходом
солнца Соня ее умыла, покормила и все наставляла:
-
Ты только не волнуйся. Сиди вот так. Когда он к тебе подходить будет, ты
голову наклони набок, рассматривай его и улыбайся, у тебя это очень хорошо
получается. О ногах своих не думай и не говори, как будто все в порядке.
Расспрашивай его, все время расспрашивай, и пускай он о себе рассказывает.
Это покажет, что ты о нем думала, заботилась. Мужчины это любят. (Соня
вправе была считать себя более умудренной опытом, чем такой несмышленыш,
как Ада. В сорок втором году она пришла в отряд вместе со своим мужем
Антоном Коряжкиным из деревни Добринево. Он погиб в первый день выхода
из окружения. Соня осталась одна и ждала ребенка.)
Что
бы там ни говорила Соня, Ада считала, что самое лучшее - не показываться на
глаза Райковичу. Но как это сделать?
Утром, только
взошло солнце, в лагерь въехала подвода с грузом, на ней сидели женщина в
красном платочке и трое ребят, а за подводой, верхом на той же, так знакомой
Аде, Красотке,- Райкович.
Он тоже увидел Аду и,
стегнув лошадь, подъехал рысью. Едва ли она наклонила голову и смогла
улыбаться. Все Сонины наставления и советы разом выскочили из памяти, и
если бы она действительно могла убежать, только бы ее и видели! Но делать
было нечего, не играть же в молчанку.
Ада взглянула на
Сашу, и прежняя, знакомая волна нежности к этому парню охватила ее. Ничуть,
ничуть он не изменился и смотрел на Аду, как будто ничего не случилось.
- Ну, здравствуй, Саша! - как можно веселее
сказала Ада.
- Здравствуй, Адок! - приветствовал он
ее, называя так, как называл только Марат.
- Вот уж
не думала увидеть тебя живым и здоровым!
- А я
думал.
- Ну и как?
- Очень
рад, что вижу тебя.
Ада низко опустила
голову.
Эх, была не была, спросит, как учила
Соня:
- Как же это с тобой случилось? Как ты отбился
от отряда?
- Как многие. Сначала попал в переплет.
Потом вот, спасибо Красотке, вынесла меня. Можно сказать, от верной смерти
спасла...
Если правда, что лошади хорошо понимают
настроение человека, то в эту минуту Красотка должна была чувствовать, как
Ада любит ее и как благодарна ей. В станьковском лесу Ада иногда баловала ее
кусочком хлеба, но здесь нечем было ее угостить.
- Я
тебе потом все расскажу,- заторопился Саша,- а то я за старшего, мне сейчас в
штаб бригады надо... Я скоро вернусь! - Он поднял ругу, помахал ею в воздухе,
словно приветствуя Аду, и стал догонять свою подводу.
Саша остался в ворошиловской
бригаде.
Свободное от разведки время он проводил
около Ады. О ее несчастье они ни разу не заговорили. Однажды, правда, из
разведки он привез настоящий стерильный бинт, но отдал его не Аде, а Соне.
Она, наверное, радовалась даже больше Ады. За эти месяцы, особенно когда
потеплело, Соня раздергала для перевязок почти всю вату и марлю из
Адиного пальто. Так что в лучшем случае из зимнего оно превратилось в
демисезонное.
Что-то творилось с Адой в эту
восемнадцатую весну ее жизни. Какие надежды и несбыточные мечты она пробудила в этой бедной, стриженой голове, прикрытой заячьей шапкой с красной
лентой?
В то время она даже боялась думать о Саше.
Жила сегодняшним днем. Саша уехал в разведку - волнуется, ждет его, а
увидит, как Красотка мчит его к ее "дому", готова выпрыгнуть навстречу от
радости. Значит, все хорошо. Саша жив, и разведка прошла благополучно. Марат
часто сидел с ними вместе, и это были самые счастливые ее
часы.
10 апреля 1943 года отрядам было приказано
рассредоточиться по своим прежним районам: "Двадцать пятому" предстояло
возвратиться на Минщину.
А в ночь на девятое апреля,
еще ничего этого не зная, Саша уехал в разведку. Он обещал вернуться к двенадцатому, когда Аду и других раненых и обмороженных должны были увезти на
остров Багун.
Что только не говорил ей Саша в этот
вечер! То ли он предчувствовал разлуку навсегда, то ли верил тому, что говорит,
но все равно это было прекрасно.
Он обещал дать Аде
адрес своих родителей, живущих где-то в Челябинской области. Сразу же из
госпиталя она должна будет написать им письмо и переслать письмо самого
Саши, которое он ей вручит. А после излечения, не задерживаясь, она поедет к
Сашиным родителям, где будет принята, как самый дорогой для них человек.
Война окончится, и Саша приедет. К
родителям...
И к ней.
Все это
было в ночь на девятое, в спокойную, светлую полесскую ночь, сулившую Аде
счастье.
Он первый сказал Аде, что она будет ходить.
Ведь его отец тоже ходит на протезах, у него отрезало ноги трамваем...
Наверное, он приврал об отце для утешения.
Обмороженных отправили раньше, чем предполагалось. Райкович вернулся, когда их уже увезли. Он, не стесняясь, плакал, и это
видели все партизаны.
Была ли это любовь или жалость
и сострадание к девушке, попавшей в беду? Кто может теперь
ответить...
...Нас,
"нестроевых", взял под свою опеку дядя Миша из Полесья. В отряде его хорошо
знали. Пожилой, невысокий, юркий, с острым носом, который во время
разговора смешно шевелился, он часто бывал в штабе. Ходил в лаптях, домотканых брюках и куртке. Его деревню фашисты сожгли, жителей расстреляли, из
всей семьи спаслись он, сын и невестка. Жили они на необитаемом острове, как
робинзоны, среди болот Полесья, между реками Случанка и
Лань.
Трогательно прощались со мной партизаны,
командиры нашего отряда Апорович, Егоров, комиссар отряда Мартысюк (мы
его знали по партизанской кличке
"Калиновский").
Были напутствия, советы, пожелания,
приветы Большой земле - все знали, что меня скоро переправят
туда.
Тут же стояли дядя Николай и
Марат.
Апорович и Мартысюк стали настаивать, чтобы
Марат ехал со мной. Они давали ему направление в
суворовское.
Я тоже склонялась к этой мысли. Очень уж
мне хотелось, чтобы Марат был рядом, чтобы получил образование и стал
настоящим воином.
Но Марат стоял строгий,
непреклонный, ершистый.
- Никуда я не поеду! -
отрезал он, словно был здесь командиром.- Пока война не кончится - не
поеду. А потом буду учиться на моряка.
Апорович и
Мартысюк переглянулись - уж больно они любили Марата и, конечно, не
хотели с ним расставаться.
- Скажи ему ты, Ада,- не
очень решительно, как мне показалось, для очистки совести сказал Апорович с
еле заметной улыбкой на полных губах,- видишь, нас-то он не очень слушается.
Я лучше всех знала Марата. Он не был
упрямым, но была в этом мальчишке такая взрослая рассудительность, такая
решимость, такая логика поступков, что лучше было с ним не
спорить.
Вместо всяких слов я протянула ему руку, он
прижался ко мне и шепнул:
- Ты молодец, Адок.
Давай там поправляйся.
И опять я почувствовала себя
мамой: она, я уверена, поступила бы точно так
же.
Ехали долго на лошадях по
болотам Полесья. Потом дядя Миша по двое перевозил нас в лодке-душегубке
через бурную и широкую реку к острову. Природа в Полесье особенная, непривычная. Вода по весне подходит к самым домам, так что лодка плывет в
ворота усадьбы и прямо к крыльцу.
На остров были
доставлены, кроме меня, Ваня Бодренко- воронежский парень, тоже без ног,
Антонов, Маня Плакс, Коля Орлов, Миша Гречаник, Нина Андросова, Гриша
Гальперин, Федя, Рива - все "неходячие". Были, правда, среди них
"прыгающие" на одной ноге и "ползающий" Ваня Бодренко. Я же решила, что
никогда ползать не стану, не уподоблюсь четвероногому, особенно когда на
меня смотрят. А Ване было все равно, смотрели на него или нет: он старательно
и упрямо ползал, обдирая локти, волоча ноги. Я его за это почти возненавидела.
Здоровых было четверо: моя медсестра Соня,
дядя Миша, его сын и невестка - молоденькая милая полещучка, в лапо-точках,
в национальной белорусской одежде.
Соня Коряжкина
не захотела от меня отстать и была мне незаменимой опорой. Из отряда ее
отпустили со всей охотой- она все равно вот-вот должна была рожать. Это,
правда, не мешало Соне ухаживать не только за мной, но и за остальными.
Дядя Миша пожертвовал в общий котел своего
единственного вола, нашлось немного зерна: его мололи в ручной мельнице-жерновах, что было не редкостью в белорусских
селах.
Привез с собой дядя Миша из бригады и соль -
там поделились последним, не пожалели для "нестроевых"
партизан.
Через несколько дней уже начали ходить
Антонов, Рива, Федя, Коля - почти все "прыгающие" на одной
ноге.
Ночевали мы в шалашах, умело возведенных
дядей Мишей и его сыном, а днем были на
воздухе.
Транспорта, кроме лодки-душегубки, никакого
не было, ходили на ней полещуки и за рыбой. Ничего.
Жили!
Зато ежедневно умывались чистой речной водой,
вдыхали чудесный воздух, грелись под ласковым весенним солнцем. Я даже
загорела, высыпали мои веснушки, облупился нос.
И
вот, когда уже стали оттаивать наши душеньки от всех невзгод, подкралась к нам
новая беда. Почти все начали чесаться.
Сначала мы
посмеивались друг над другом, потом стали понимать, насколько это серьезно.
Ко мне чесотка пришла позже, уже на аэродроме.
Через
десять дней, двадцатого апреля, на остров прибыли из бригады двенадцать
партизан и повезли на аэродром меня и еще четверых. Остальные по-прежнему
должны были оставаться под опекой дяди Миши.
Наш
небольшой отряд около восьми суток пробирался до аэродрома. Двигались мы
только ночью, днем забирались в чащу и ждали темноты: по пути везде
немецкие гарнизоны, их надо было объезжать, а кое-где и проскакивать
"впритык". Все деревни вокруг были сожжены и узнавались только по печным
трубам да уцелевшим колодезным журавлям. Из живых существ - одни
одичавшие коты.
И все же однажды мы напоролись на
группу немцев. Ночью обнаружили их костер неподалеку от нас. Скорее всего,
это были немецкие офицеры, которые решили поохотиться. Вся наша охрана
ушла, и мы пережили трудное время беспомощного ожидания. Вернулись ребята
примерно часа через три с трофейным оружием и с консервами. Они рассказали,
что подобрались к костру почти вплотную. Пьяные немцы и полицаи спали, так
что все обошлось без единого выстрела.
Только
последние три-четыре дня мы уже ехали днем, а ночью отдыхали в лагерях
партизан, которые, чувствовалось, здесь у власти. Ночевали один раз в лагере
гражданских: оставшиеся в живых жители разоренных и сожженных сел
уходили в лесные чащи, строили себе землянки, шалаши и там жили, корчевали
лес, возделывали землю, сеяли пшеницу.
В последних
числах апреля мы переехали на пароме знаменитую белорусскую реку
Оресу.
Здесь деревни были разбиты фашистской
авиацией. Этот Любанский район был полностью в руках партизан. На его
территории и находился аэродром: фашисты, как ни пытались захватить его, не
могли и только действовали авиацией. Правда, районный центр Любань был в
руках фашистов, они сидели там, забившись, как в нору, боясь выйти за пределы
укрепленного города.
В Заоресье мы почувствовали
себя вольготнее, да и с продовольствием здесь было лучше, а мы порядком
изголодались.
Перевязки я уже делала себе сама:
Сонечка осталась на острове, а может быть, за эти дни успела и разродиться.
Перевязки мои заключались в том, что я снимала один промокший холщовый
бинт и заменяла его другим, просохшим на возу: чаше всего не было даже воды,
чтобы его прополоснуть.
Числа 28 апреля мы въехали в
деревню Сосны, где располагался штаб соединения целой партизанской армии.
Над домом штаба - красный флаг, как на Большой земле. Никогда не смогу
передать своего чувства при виде открыто, свободно развевающегося алого
полотнища. Это значило, что жива Советская власть. Живы были и колхозы:
люди пахали и засевали землю, им помогали партизаны из
отрядов.
Штаб откомандировал нас в деревню Баяничи:
самолета в ближайшие дни не ждали, а жить в Соснах было
негде.
В Баяничах нас разместили по квартирам. Нам с
Костей выпало жить в семье Кулаков (вот фамилия!), которая состояла из
матери, сына и дочери. Мать, не по годам состарившаяся, болезненная, желчная
и злая, чаще всего сидела на печи и не переставая бранила свою хорошенькую
дочь Антолю. Я смотрела на худую, длинную и тонкую, как жердь, старуху с
высохшим, костлявым от болезни и злости лицом и думала: "Вот поистине
ведьма!" Антоле было лет восемнадцать, не больше, милая, тихая, мухи не
обидит. На ее плечах лежала вся работа по дому и немалое хозяйство по тем
временам: корова, свинья, куры, огород, приготовление пищи, в том числе и для
нас с Костей.
Я как увидела Антолю, так сразу и
приняла в свое сердце.
Бывают же люди, к которым не
надо привыкать и присматриваться: все у них написано на
лице.
С помощью Антоли впервые за все месяцы моей
болезни я искупалась в деревянном корыте. Она же мне стирала ежедневно
бинты и давала для них кусочки чистого холста.
Днем
чаше всего я лежала одна: все были заняты работой, Костя помогал в хозяйстве,
в поле, на огороде (пора-то весенняя, горячая), бабка уходила надзирать за
ними.
Иногда меня навещали ребята из нашей
охраны.
Они тоже не бездельничали: соскучились по
земле, по настоящей работе, а тут ее сколько угодно. Да и надо было поступать
по-советски - отрабатывать свой хлеб.
Я одна была
невольной нахлебницей, ну да Костя, прямо сказать, вкалывал за
двоих.
По вечерам к Антоле приходили из села девчата
и ребята. Обычно усаживались вокруг моей кровати и пели песни. Народные
белорусские, печальные и протяжные, мелодичные и ласковые, а то лихие, с
подсвистом, задорные и шуточные. Очень много пели частушек, причем сами их
слагали на разные темы, в том числе и о фашистах. В памяти удержалась лишь
одна:
У Баянiч додж
iдзе,
А у Любанi
слiзка.
Уцакайте палiцаi -
Партызаны
блiзка.
И рядом, не выпуская
моей руки из своей загрубевшей, рабочей, сидела Антоля, с сияющими глазами,
такая юная, почти девочка, что рядом с ней я чувствовала себя пожившей,
умудренной опытом.
Так незаметно миновал
май.
Ребятам, хотя и жилось неплохо, становилось
неудобно бить баклуши, в то время как товарищи их воевали. По их инициативе
Костя поехал в Сосны в главштаб и напомнил о нас.
Там
ему дали разрешение на отправку меня первым самолетом. В эту весну не
приземлялся ни один самолет: посадочная площадка была еще сырой. Летчики
сбрасывали груз и уходили обратно. В небе все время патрулировали
фашистские истребители.
Я распрощалась с
Антолей.
Я рассталась еще с одним славным человеком
на долгом пути от станьковского леса до аэродрома. Ехала я уже, ни мало ни
много, больше пяти месяцев.
И вот он, аэродром: чистое
крохотное поле и несколько землянок. Как это невыносимо - беспомощной
лежать в землянке, когда на воле бушует весна, поют птицы, наливается зеленью
вековой бор, а тебе только семнадцать, и ты не можешь, не в состоянии выйти на
простор и вдохнуть полной грудью нежный, ни с чем не сравнимый воздух
расцветающей земли! О боли, терзавшей мое тело, я уж не говорю, я к ней
притерпелась.
А тут еще напала на меня чесотка. Долго
она меня, оказывается, обходила и наконец на аэродроме настигла. Смертельный, до боли в сердце, зуд, когда перехватывает дыхание и от безнадежного
отчаяния хочется залезть в петлю. Мне кажется, что порой я даже теряла
сознание. Все мои прежние муки казались, в сравнении с этой адской пыткой,
просто ничтожными.
Костя, видя мои страдания, решил
меня намазать дегтем. Я была согласна на все, даже если бы он предложил
поджаривать меня на костре.
Было наконец получено по
рации сообщение из Москвы, что назавтра, 12 июня, отправляют самолет.
"Лечение" отпадало. Мне даже показалось, что чесотка чуть
унялась.
Мы ждали
самолет.
Ждали все: и те, кто должен улететь, и те, кто
оставался здесь еще на долгие месяцы.
Это ведь тоже
особая радость: самолет - вестник с Большой земли, люди из Москвы! Частица
огромной Родины. Особая гордость: там, в Москве, нашлись люди, которые,
рискуя жизнью, через фронт летят специально за
нами.
Ночью самолет
прилетел.
Сколько волнений! На аэродроме все наготове
- вот-вот зажгут опознавательные костры...
Костя
каждые пять минут прибегает в землянку и сообщает:
-
Летит!.. Уже слышен гул... Уже приготовили костры и факелы... Ада,
готовься!
А что готовиться: характеристика из отряда
зажата в кулаке- это все мои документы; имущество - полушубок рядом,
остальное на мне.
Но тут в воздухе появились
фашистские истребители. Советский самолет сбросил груз и повернул
обратно.
Он был беззащитен перед пятеркой
истребителей и не смог приземлиться. Какое разочарование, какая
обида!
Тринадцатого числа снова сообщение из
Москвы: ждите самолет!
В эту ночь все прошло
благополучно. Мы уже так не радовались (не спугнуть бы!), хотя напряжение
было не меньшим. Я слышала в открытую дверь гул моторов, потом он стих, и
кто-то отдавал команду. Самолет приземлился!
Как
летчики сажали машину на этот маленький пятачок, окруженный со всех сторон
плотной стеной леса, понятия не имею. Самолет подкатил вплотную к лесу, его
замаскировали лапником: улететь он должен был только в следующую
ночь.
Днем Костя вынес меня из землянки: очень уж не
терпелось мне поскорее увидеть летчиков.
Я сидела на
крохотной зеленой поляночке, подстелив под себя дерюжку, ноги прикрыла ею
же, руки сверху закрыла, отвернув манжеты кофточки, чтобы все мои страшные
раны сразу не бросались людям в глаза, голову покрыла белым шелковым
платочком (Костя где-то стянул кусок парашюта).
И вот
ко мне подходит весь экипаж - четыре человека. Сели вокруг, веселые,
здоровые, красивые.
Впервые я видела летчиков. Не на
фотографиях, не в кино, а в жизни. Те словно и не люди, а боги - Чкалов,
Ляпидевский, Каманин,- а эти вот передо мной, живые, с открытыми лицами,
улыбающиеся. И тогда, и после, и сейчас я не устаю дивиться на летчиков - и
военных, и гражданских. Они для меня всегда, как люди с другой планеты:
благородные, сильные, смелые, спокойные, добрые, справедливые, готовые
прийти на помощь. Это у меня осталось с детства.
Как
жаль, что от волнения, смущения и ложного стыда за себя, искалеченную и
обезображенную, я не могла говорить. Но я задыхалась и захлебывалась от
чувства радости и восторга: видеть здесь, в этих дремучих лесах, под самым
носом у гитлеровцев, этих славных ребят! И какой важной птицей я себя
почувствовала! Ведь это из-за меня и Ивана прошлой ночью эти четыре красавца
- один лучше другого - летели, чтобы увезти нас на Большую
землю.
Впервые в этот день увидела я погоны на плечах
военных, но не могла отличить старшину от капитана. Они мне наперебой
объясняли и даже подарили газету с образцами новых знаков различия,
введенных в армии.
Летчики были очень добры ко мне,
угощали "Беломором" и толстым американским шоколадом. Он совсем не
походил на наш шоколад, который, правда, за всю мою жизнь я пробовала всего
два-три раза, не больше. Наш, по-моему, был вкуснее, но и этот я ела с
удовольствием.
Вкус "Беломора" я уже знала с той
ночи. Костя принес одну папиросу, которую он стрельнул у этих же летчиков, и
мы все понемногу покурили ее.
В общем, устроили нам
летчики настоящий праздник. Я даже о всех своих болячках
забыла.
На аэродром привезли десять детей. Подобрали
их партизаны на дорогах и в лесах. Все они потеряли родителей и насмотрелись
такого, что даже нам представить было трудно. Сопровождала детей пожилая
заботливая партизанка. Дети были оборваны. На скорую руку она сшила из
парашютного шелка несколько платьиц девочкам. Я очень хотела ей помочь, но
боялась - чесотка! Поэтому ограничивалась советами: фасон был выбран самый
простой - мешочки с двумя прорезями для рук. Каково же было мое удивление,
когда после войны этот фасон стал входить в моду. Не иначе, мы его
предугадали на полесской поляне еще летом сорок третьего
года...
Ночью, как только стемнело, нас погрузили в
самолет.
Я попросила место у
иллюминатора.
Я все время смотрела в иллюминатор и
видела разрывы зенитных снарядов, снопы голубого огня - по нашему самолету
здорово били!
Когда перелетели линию фронта,
стрелок-радист спустился к нам, включил в салоне свет, вздохнул
облегченно:
- Ну, все - мы
дома.
В четыре часа утра четырнадцатого июня 1943
года мы приземлились на одном из подмосковных
аэродромов.
Я видела в иллюминатор несколько
санитарных машин, выстроенных в ряд, и у каждой из них - медсестер в белых
косынках с красными крестами.
Мне было странно:
чистые носилки, специальные машины, сестры в белоснежных
халатах...
Летчики простились со мной и со всеми
ранеными, навсегда уходили из нашей жизни. Я жалела и теперь всегда жалею,
когда вот так уходят хорошие люди, и нет никаких надежд встретить их
вновь.
Санитарная машина везла меня в какую-то
другую, неведомую жизнь.
Что бы ни ожидало впереди,
я твердо знала: то, что оставлено там, за линией фронта, никогда не
повторится.
Там оставила я и первых своих друзей, и
первых своих врагов, и Марата, и могилу матери, которую никогда не найти, и
свою юность.
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ,
ДВИГАТЬСЯ...
И началась
новая жизнь в Монине, под Москвой.
В госпитале,
после настоящей санобработки, меня посадили на носилки, закутали в
белоснежные простыни. Несколько дней из-за чесотки меня вообще не одевали,
а только укрывали простынями.
Врач Галина
Филадельфовна, красивая, холеная женщина с живыми, любопытными глазами,
прежде всего осмотрела мои ноги. Раны тут же промыли и наложили на них
стрептоцидовую эмульсию, нисколько не жалея драгоценного бинта. Боже мой,
какое несметное количество бинтов пошло на эту первую перевязку!.. С испугом
и недоумением я смотрела то на сестру, то на врача, и они, не понимая моего
состояния, то и дело спрашивали: "Тебе больно?" Нет, больно мне не было.
Наоборот, через десять - пятнадцать минут наступило необыкновенное
облегчение.
Вот теперь можно было жить и
дышать.
Галина Филадельфовна (так до сих пор и не
знаю, откуда могло взяться такое отчество, не от американского же города
Филадельфия!) после всей этой процедуры взялась оформлять мою историю
болезни: "Имя? Отчество? Фамилия? Год рождения?" Не знаю, как отвечать на
некоторые вопросы: не помню, какой год рождения указан в характеристике из
партизанского отряда. Когда пришла в отряд, я соврала, боясь, что меня не
возьмут, будто родилась в 1924 году, а на самом деле я была с двадцать пятого.
Мне это казалось прямо уголовным преступлением. Вот ведь беда:
характеристику читала раза два или три, зрительно даже помню: "Пришла в
отряд добровольно, была дисциплинированна, выполняла все задания
командования, участвовала в боях и засадах, находилась в строю даже с
тяжелым обморожением обеих ног, за что приказом по отряду имела поощрения
и представлена к правительственной награде". А год рождения? Не помню, не
помню. Галина Филадельфовна испытующе, как мне казалось, смотрела на меня
и, не дождавшись ответа, ничего не написала в этой графе
анкеты.
- Милая девочка, тебе же больше
четырнадцати лет нельзя дать...
Она была очень ласкова,
позже полюбила меня и очень заботилась; из дому всегда привозила мне что-нибудь вкусное: "Это мама испекла"; а когда меня перевели в другой корпус,
продолжала навещать, как "свою", и я еще издали слышала ее обращение к
сестрам: "Как моя девочка поживает?"
В общем, она,
очевидно, думала, что меня просто где-нибудь подобрали партизаны, спасли мне
жизнь, а теперь я, девчонка, придумываю себе военную
биографию.
Сразу, со следующего дня, меня начали
готовить к операции. Прежде всего необходимо было вылечить чесотку. Ежедневно медсестры натирали меня какой-то желтой, с серным запахом, ядовитой
мазью, на меня уходила сразу почти пол-литровая банка. Назавтра купали и тут
же намазывали снова, ежедневно меняя простыни. Меня такая расточительность
мучила: столько хлопот доставляю!
Внимание ко мне
было огромным. Со мной буквально нянчились, хотя я совсем не была
требовательной, наоборот, чувствовала себя неудобно, не знала, как спрятаться
от потока посетителей, особенно в первые дни, когда на меня просто приходили
посмотреть врачи, сестры из других корпусов госпиталя, какие-то летчики,
военные. Лежала я в палате одна: в госпитале почему-то не было раненых
женщин и девушек.
Палата была маленькая, в ней
стояли только две кровати, очень чисто, уютно и даже с комфортом: стенной
шкаф, картина на стене, соседняя постель накрыта тюлевым покрывалом (!), а
мое покрывало - на спинке кровати: в приемные часы им прикрывались
мои ноги; на окнах - белые промереженные
занавески.
До войны здесь был дом отдыха военно-воздушных сил, так все и осталось. Оказывается, и сейчас в двух или трех корпусах отдыхали летчики, они-то и стали приходить ко мне. Повезло же мне,
честное слово, на такое количество славных молодцов. Сестры и Галина
Филадельфовна начали даже "устанавливать порядок", как-то регулировать эти
посещения. А меня, честно говоря, они бодрили, заставляли подтягиваться, все
время быть "в форме".
Вся эта уж очень чистая
обстановка, режим, питание, уход после партизанских землянок и шалашей,
после моих "обителей" на санях и телегах, на плетеных носилках, даже после
Антолиного "рая" казались необычными, роскошными и, главное,
незаслуженными.
Однажды, когда в очередной раз меня
нужно было мазать желтой мазью с серным запахом, с банкой в руке пришла
очень красивая высокая сестра, похожая на киноактрису. Посмотрев на мое тело
и раны, она испугалась, поставила на тумбочку банку - и в дверь. В дверях она
столкнулась с Галиной Филадельфовной.
- В чем
дело? - строго спросила та.
- Я не могу к ней
притрагиваться. Это невозможно!
От оскорбления и
обиды я заплакала (в душе-то я понимала, что заразная, чесоточная, но обида от
этого не уменьшилась) .
- Ах, не можете? - вспыхнула
Галина Филадельфовна. - Тогда убирайтесь!
Вот как,
оказывается, она умела разговаривать, милая и мягкая Галина
Филадельфовна!
Через несколько минут в палату вошла
другая медсестра, маленькая, невзрачная, Шурочка Котова. Возмущенная поведением своей подруги, она сама чуть не плакала.
С тех
пор я никогда больше ту красивую сестру не видела. Ежедневно меня натирала,
намазывала, купала, кутала в простыни только Шурочка. Завернет меня поверх
простыни пикейным покрывалом, возьмет на свои тонкие, казалось, слабые руки
и несет, как ребенка, в санпропускник, размещавшийся в другом корпусе. Не
несет, а прямо бежит мелко и быстро, цокая каблучками. Я боялась: вот-вот
споткнется и упадет.
- Не бойся,- говорила
Шурочка,- я не упаду, ты только держись крепче за шею и прижимайся ко мне,
я знаешь какая здоровая? Ого-го! Не гляди, что маленькая. Да ты и не тяжелая
вовсе. Знаешь, каких мужчин я ношу? В три раза тяжелее
тебя.
Я тогда весила около сорока килограммов. Бывало,
потрогаю себя за спину - торчит острый позвоночник, посмотрю в ручное
зеркало - цыплячьи ключицы, обтянутые кожей.
Через
неделю чесотка моя исчезла. Вот тогда-то, в основном, и начались блаженные
дни "приемов" и посещений летчиков.
Мне сделали
операцию. Как она не походила на ту, в лесу, хотя по сложности, надо полагать,
была такой же. Это была реампутация; меня еще "укоротили" на десяток
сантиметров.
Забавно было то, что на правой ноге
оперировала Галина Филадельфовна, а на левой - какой-то другой хирург, мужчина.
Операция проходила под общим наркозом,
который я почему-то переносила очень тяжело. А как же там, в лесу, когда меня
просто держала Соня, распяв руки и придавив тяжестью своего
тела?
...Меня привязали к столу, положили на лицо
маску и сказали: "Вдохни в себя сильно, будет казаться, что задыхаешься, но это
только кажется. Дыши, дыши смело, чем глубже, тем лучше". Я дохнула чем-то
густым, тяжелым, сковывающим раза два или три. Мужчина-хирург задает
вопросы: "Откуда ты? Где отец? ("Где отец, где отец?" - как эхом отзывается
во мне.) Где мать? ("Где ты, мама? Если бы я знала, где ты...") Как тебя зовут?"
- "Ада".-"Аделаида?" - "Нет, Ариадна".- "Гм, гм, Ариадна... Нить
Ариадны... Это не ты дала нить одному парню, который заблудился в
лабиринте?" - "Нет, не я. Какую нить?" - "Подрастешь-узнаешь".-"А как
зовут парня?" -"Забыл, совсем забыл. Знаю только, что ты спасла его, дала ему
клубок ниток, и он выбрался из лабиринта. ("Лабиринт", какое интересное
слово! Откуда он взял его? Лабиринт...") Сколько тебе лет? Посчитай". ("Ага,
вот оно: я должна считать, сколько мне лет. Буду считать, конечно же, до
восемнадцати, меня не обманешь)-"Раз... два... три... четыре...
пять"...
Говорили, что эти "пять" я повторяла и
повторяла. А потом уже, после операции, долго
спала.
Проснулась оттого, что кто-то меня больно
хлопал по щекам. Помню, из глаз сразу потекли под голову ручьем слезы,
горячие и обильные. Боль ужасная. Мне казалось, что она еще сильнее, чем была
в отряде, когда рвались, как шпагат, трещали сухожилия, сосуды, нервы. Даже
глазами в сторону посмотреть нельзя - голова разламывается, внутренности
выворачивает от тошноты, ежесекундные позывы к рвоте. И этот ужасный,
смешанный, как будто я проглотила разом целую аптеку, запах лекарств. Ноги
мои я ощущала огромными, разбухшими, тяжелыми. Жжет их огнем, а всю меня
колотит как в лихорадке и дергает так, что сотрясается
кровать.
Дня четыре после операции меня непрерывно
рвало и тошнило, есть и пить я совершенно не
могла.
Делали какие-то уколы, вливания, поили бычьей
кровью. Принесут кружку еще теплой, и вот пей. Какая мука! А старшая сестра
Аня держит кусочек шоколада, чтобы заесть, и уговаривает, как маленькую
девочку:
- Адочка, миленькая, вот возьми, не дыши и
- сразу! Залпом, единым дыхом. Р-р-раз! Ну, Адочка, тебя прошу, тебя, ну как
землячку прошу, я же витебская, будь добренькая, ради
меня!
Как откажешься: пила,
конечно...
Я стала немного подниматься, полусидела, а
есть все не могла. Няней в нашей палате была женщина из Лосиноостровской,
фамилия ее не то Воейко, не то Воейкова. К ней ежедневно приезжала на
электричке ее дочь Нина, девочка лет шестнадцати-семнадцати. Почти все дни
после операции она проводила в моей палате. И я рада была этому: во-первых,
мы нашли общий язык, о чем-то все говорили и говорили; во-вторых, я отдавала
ей все свои обеды, ужины, завтраки и таким образом спасалась от еды. Я ей от
души была благодарна за это "спасение". Но потом кто-то или заметил или
догадался, и Нину стали "просить" из палаты. Во время "приема пищи"
приходили старшая сестра Аня или Шурочка и насильно толкали в меня супы,
каши, мясо, компоты.
Все те дни я жила еще свежими
воспоминаниями о партизанских лесах, о людях, которые остались там, о
Марате, о Райковиче.
Несмотря на всеобщее внимание и
доброту, тосковала я сильно, и, наверно, если бы мне вдруг предложили все
оставить и немедленно лететь к своим через линию фронта, я бы вернулась туда
с радостью, не задумываясь о последствиях.
И где бы я
потом ни была, куда бы меня ни забрасывала судьба, везде и всюду я тосковала
по нашей партизанской братве, по белорусским лесам... Много и часто думала о
Саше Райковиче, потихоньку "пускала слезу" о Маратике: все мерещилась его
искалеченная рука - как он там с ней управляется в постоянных разведках? - и
писала ему много писем. Из всех моих писем в бригаду, как я потом узнала,
дошло только одно.
После операции, уже через месяц,
дела мои пошли лучше, хотя в культи (вот ненавистное слово, да, видно, не
обойдешься без него) еще вставляли тампоны. Хирурги были мною довольны и
обнадеживали. Но вот беда: после чесотки на теле оставались синие пятна... Ну
куда же это годится? Этого мне только не хватало: такая некрасивая кожа. И
опять слезы. Ну и плакса я стала, честное слово. Галина Филадельфовна
улыбалась, видя мое неутешное горе: "Хорошо, уничтожим и пятна". Чем-то
еще меня мазали. Моя милая докторша не обманула меня - пятна
исчезли.
Левая нога моя зажила быстрей, а в правой
оставался тампон (ага, можно и не называть то короткое, обрубленное слово,
пусть уж будет "нога"). Меня перевели в четвертый корпус. Там лежали только
"ручные", то есть раненные в руки. Поместили меня в очень светлой, большой
палате на четвертом этаже. И опять одну. Скучно. Я стала здесь много читать,
подряд, без разбора. Возили меня и на концерты, которые давались на летней
эстраде. В Монине большой, очень ухоженный парк, чем-то напомнивший мне
наш, станьковский: там тоже была летняя
эстрада.
Заходили ребята из соседних
палат.
Очень помнится один летчик, офицер Костин,
смешливый и шумный. Он брал меня одной рукой, как берут детей, и с
четвертого этажа бегом вниз по лестнице мчал в кинозал. Если у дверей стояли
раненые, кричал с широченной белозубой улыбкой: "Женщину с ребенком без
очереди - на лучшие места!"
Иногда с кровати я
перебиралась на стул, с него влезала на подоконник и с высоты наблюдала за
парком и аллеями.
Начальник моего нового отделения
Серафима Васильевна вполне заменила Галину Филадельфовну, хотя и та меня
не забывала. Это Серафима Васильевна распорядилась ежедневно выносить
меня в парк на берег речушки, которая протекала тут же у
корпуса.
Потом мне стало чуть веселее: в палату
поместили очень славную девушку-зенитчицу из Московского военного округа
Зину Гумпол. Она пролежала со мной несколько недель. У нее в Москве остался
вместе с ее матерью маленький сын.
Когда ей сняли
гипс (у нее был закрытый перелом кости в голени), она ездила к себе домой в
Москву и взахлеб рассказывала мне о всех проделках сына, его словечках, играх
и капризах. Она так нежно о нем рассказывала, что я даже позавидовала: такая
молоденькая - и уже мать!
С Зиной мы
сфотографировались на память. Если не считать одной или двух семейных
фотографий в Станькове, я фотографировалась впервые. Во всяком случае, это
был первый мой "взрослый" снимок.
Зина окончательно
поправилась и уехала.
Через двадцать пять лет Зина
разыскала меня, и теперь мы с ней переписываемся.
На
смену ей в палату поместили Машу - повара из "энской воинской части", как
она представилась мне. Она упала с машины и получила легкое сотрясение
мозга. Пролежала дней десять, не больше. Здоровая, немного неуклюжая, косолапая и толстощекая, Маша говорила грубо, отрывисто и громко. Но при всей
своей внешней простоватости она очень чуткий и хороший человек. Все дни мы
с ней проводили на улице, пели песни и развлекались как могли. Она любила
чтение вслух, и я ей с удовольствием читала.
Это была
удивительная слушательница: вся внимание, с полуоткрытыми губами, с
глазами, в которых отражались все переживания - и страх, и радость, и горе, и
умиление. Щеки ее пылали, толстые пальцы рук сжаты; не дай бог кому-нибудь
перебить чтение и помешать нам.
В благодарность
Маша пела мне "Волжские матанечки" и "Страдания", знала их множество и за
все время ни разу не повторялась. Была она настоящей волжанкой, все на "о"
нажимала, и получалось у нее это просто замечательно, особенно когда она
пела.
Обед и даже ужин мне приносили сюда же, на
берег реки.
Маша вовсю купалась, а я ей завидовала.
Вот ведь появилась у меня новая черта: Зине завидовала, что у нее есть сын (у
меня-то теперь не будет), Маше - что она такая здоровая, с ногами, может, не
очень красивыми, но вполне пригодными, чтобы ходить и
плавать.
А как я раньше любила плавать, ведь выросла
на реке,- как любила воду!
И однажды я не вытерпела,
очень уж хотелось испытать это забытое чувство - побыть в воде, а главное,
попробовать, смогу ли я без ног плавать. Попросила Машу помочь мне добраться до воды. Она рада стараться: схватила меня, как куклу, на руки (чего ей,
здоровенной, стоило, она и мешки ворочала в своей "энской части") и понесла в
реку. Стала недалеко от берега и говорит:
- Я буду
руки держать у тебя под животом, начнешь тонуть- выхвачу. Не
бойся!
Она легонько опустила меня, я сразу же сделала
рывок, загребла руками воду и поплыла вперед. Проплыла метров пять,
порядочно устала. И волновалась немного, дышу тяжело, ноги падают
вниз.
- Маша, вытаскивай. Все, больше не
могу.
- Ох и молодец, ох, молодчина!-
преувеличенно похваливает меня Маша.
Я же знаю, что
это просто так, что никакой я не молодец" а все-таки приятно слушать
похвалы.
Снова лежим на берегу под
деревьями.
Мои бинты и повязки просохли, но вид у
них...
Вода не очень-то чистая в этой речушке. Мимо
шла Серафима Васильевна, я сообразила, быстро закрыла свои ноги
простыней.
- Не нужно закрывать культи, очень
полезно их греть на солнышке,- говорит она, остановившись около нас и стягивая простыню.- Почему бинты грязные?
- Не знаю. Я
купалась, может, от воды.
- Как - купалась?
Где?
- Вот, в реке,- взмахнула я с отчаянием рукой,
уже предчувствуя недоброе.
Серафима Васильевна чуть
рассердилась, прочла мне "лекцию", но большой грозы не было. "Сырая вода
вредна для ран, тем более речная, неочищенная",- назидательно говорила
она.
Через несколько минут я уже была в перевязочной.
Серафима Васильевна сделала мне новую перевязку. Теперь уже я не
удивлялась, что так неэкономно расходуют бинты. Серафима Васильевна
полюбопытствовала, однако, смогла ли я плыть, и, кажется, была довольна моим
ответом, но строго наказала: пока не заживет ранка на культе, и близко не подходить к воде.
Маша, моя Маша, уезжала. Как мне было
жаль расставаться с ней: до чего же быстро я привыкаю к людям, и что это у
меня за судьба такая - все расставаться и
расставаться!
- Война кончится, ты приезжай к нам на
Волгу. Знаешь, как хорошо у нас!
- Куда же мне
теперь ездить,- вздохнула я,- мне бы до Белоруссии
добраться.
- Дура,- рассердилась Маша,- до
Белоруссии своей ты доберешься, это не фокус, а тебе Волгу повидать надо. Я ж
тебя на руках везде пронесу. Чего это ты нос-то повесила? Ну, не так сказала. К
тому времени у тебя и свои ноги будут, и бегать станешь. Это я тебе точно
говорю.
Маша, Маша, добрая
душа!
Хотя я и усиленно занималась лечебной
физкультурой, получала массаж, толкала ногами мяч, стояла на них сначала на
мягком матраце, потом на жестком, а после уже и на доске, и стояла довольно
долго - минут по пять - восемь, - ранка не
закрывалась.
Рентгеном у меня в культе (хочешь не
хочешь, а в культе) обнаружили секвестры. Я уже стала вполне овладевать медицинской терминологией, впрочем, как и все в госпитале, и знала, с чем едят эти
"секвестры" - обычные осколки кости.
Тут уж никакая
лечебная физкультура, тренировки, перевязки, эмульсии не помогут. Нужна
была новая операция.
- Не такая уж страшная,-
успокаивала меня Серафима Васильевна (в подкрепление была приглашена
Галина Филадельфовна, которую я слушалась почему-то немного больше),-ее
мы будем делать под местным наркозом.
И хотя "не
такая страшная" и "под местным", я все же немного орала. Явно изменяло мне
мое терпение, изнежили меня здесь, что ли...
Снова
были прежние "прелести", да еще от морфия болела голова. А боль в ноге...
Позже, в других госпиталях, я смеялась и пела после операций. Чем больше
болит, тем громче пою. Помогало.
Хорошо помню
необыкновенно радостное сообщение Совинформбюро. В палате был
репродуктор, и я затаив дыхание слушала мужественный голос Левитана,
возвестивший об освобождении нашими войсками Орла и Белгорода. Ничто так
не помогало жить, забывать о всех своих бедах, надеяться на лучшее будущее,
как радостные вести с фронта. Узнают ли об этом сразу там, в станьковском
лесу, Марат, Саша Райкович и все мои товарищи из
бригады?
Сначала меня эвакуировали в Москву. Меня
отправили с документами для определения в Институт протезирования и
ортопедии. Но в Москве всех заново "пересортировала" целая комиссия врачей,
и мне выправили документы в эвакогоспиталь, так как рана еще не
зажила.
Москва превратилась в перевалочную базу,
через которую эвакуировали в глубокий тыл.
Прожили
мы там двое суток. На третьи прямо к воротам пакгауза подали санпоезд. Его
быстро загрузили. Видно здесь все это было не в новинку, хорошо
отлажено.
Меня поместили у окна на верхней боковой
полке подо мной лежал слепой, напротив в купе - молодые ребята с тяжелыми
ранениями в грудь и в брюшную полость. Было несколько "ручных". Этим я
писала письма родным и близким, слепому, все время сворачивала папиросы из
махорки, прикуривала и подавала вниз.
Комиссар
санпоезда поручил мне читать вслух газеты
- Будешь
политинформатором в вагоне, - сказал он.
Что ж, это
было мне не в тягость. Однажды я вычитала в одной из газет об убийстве
белорусскими партизанами гебитс-комиссара Белоруссии Вильгельма Кубэ,
гитлеровского ставленника и палача. Фамилии героев не указывались Я и
радовалась, и мне было грустно немного: там вовсю воюют, а
я...
Физически я почти не страдала: левая нога зажила, а
рана и свищ на правой не беспокоили. Перевязки делали регулярно.
Зато меня все больше и больше начинало мучить
сознание своей бесполезности. Подолгу я задумывалась над будущим: как я буду
ходить? Смогу ли я ходить на протезах и как буду ходить, если смогу? Меня
некоторые утешали: ведь ноги у меня были ампутированы до колен. "Вот когда
выше - это дело дрянь",- говорили мне. И все же, чем я стану заниматься? За
плечами всего восемь классов и никакой профессии. "Умею работать руками,
все умею делать, - думала я, - пойду учиться на повара или в швейную
мастерскую".
О большем я и не мечтала. Для меня
главным было начать двигаться самостоятельно, а там найдется выход. Очень
хотелось учиться.
А затаенно, где-то в глубине души,
прятала мечту научиться хорошо ходить, снова вернуться в партизанский отряд
и пойти в конную разведку рядом с Маратом и Сашей Райковичем. Сколько
"неоплаченных счетов" оставалось у меня к фашистам за все, за все: и за маму, и
за мои скитания в Минске, за Колю Комалова и Ивана Андреевича Домарева, за
муки, голод, за убитых друзей, за сожженные села и расстрелянных женщин и
детей, которых я видела собственными глазами в
Литавце...
Еще до войны я всегда хотела куда-нибудь
ехать, но мало где была, только в Минске. И эта большая дорога - чуть ли не
через всю страну - радовала меня новизной: я вглядывалась в города, вокзалы,
людей, леса и реки - всюду была жизнь, сосредоточенность. Даже из окна
вагона я могла это наблюдать.
Ехали мы долго, суток
двенадцать или тринадцать, подолгу простаивая на станциях и разъездах.
Постепенно менялась природа: Урал... Сибирь... И вот, наконец,
Иркутск.
Помню в госпитале этого старинного
сибирского города всех нянечек, медсестер, врачей и теперь еще продолжаю восхищаться их терпением и вниманием. Непонятно было, когда эти люди отдыхали
и отдыхали ли вообще.
Я старалась никому не
надоедать, никогда ни на что не
претендовала.
Взбунтовалась я только однажды, когда
мне принесли протезы, - истерически плакала и не хотела их надевать. Это были учебные, а они топорны, грубы, просто
безобразны.
Как меня ни уговаривали, я долго
отказывалась встать на них.
И еще был случай:
подралась с одним молоденьким раненым сержантом. "Подралась" - не совсем
точно, просто я его отлупила, а он меня и пальцем не тронул. А случилось это
так. При госпитале стал работать учебно-курсовой комбинат. Я начала посещать
курсы бухгалтеров связи (одновременно осиливала программу за девятый класс
средней школы), их посещали и мои "сопалатницы" Таня Безрукова, Ерофеева и
многие ребята, которым надо было осваивать мирные профессии, так как после
госпиталя они уходили на "гражданку". Один сержант из Ворошиловграда -
Миша Урсол, из палаты, что напротив нашей,- тоже посещал эти курсы.
Знаний у него было значительно больше, чем у остальных: еще до призыва в
армию он закончил десятилетку. Кроме того, любил он математику и знал ее
блестяще. Это мы сразу все отметили, и Миша всем нам стал
помогать.
Обычно он приходил к нам в палату, мы все
усаживались вокруг стола и решали задачи. Часто он брал меня в охапку и, не
дожидаясь нянечек, уносил в комнату для занятий, а по окончании приносил в
палату. Мы с ним очень сдружились, бывали вместе и в нашей палате, и в
библиотеке, и в кино. Я "навещала" его тоже: он приносил меня в свою палату,
где подобрались очень славные люди. Миша среди них был самый молодой, и
его звали "сыном палаты".
После отбоя мы писали друг
другу записки, а ночные нянечки тетя Тоня и тетя Фрида были нашими
добросовестными и неутомимыми почтальонами. Записки были смешными, наивными, иногда озорными, иной раз и лиричными. Миша писал мне на большом
листе печатными огромными буквами: "Ада, ты мой идеал!!!" Я оставляла это
признание без ответа и писала ему: "Миша, мне очень нравится Дон-Кихот, что
стоит в библиотеке, принеси его мне". На следующий день у меня на тумбочке
красовался бронзовый Дон-Кихот.
А иной раз вроде бы
и писать нечего было, но я вдруг получала записку: "Завтра в клубе я занимаю
тебе место в двенадцатом ряду. Ждать буду с нетерпением, пожалуйста, ни с кем
больше не садись". Чего там было "ждать с нетерпением", и с кем я могла сесть,
когда сам Миша чаще всего меня и уносил туда.
И все
равно это было приятно, все равно я забывала о своем положении, и мне уже
порой казалось, что я "как все".
Однажды "курсанты"
ушли после занятий в свои палаты. Миша в этот день почему-то отсутствовал, я
сидела одна и ждала нянечек с носилками.
Неожиданно
заглянул в дверь Миша.
- Тебя не унесли еще? Давай я
унесу.- Он поднял меня и вдруг снова посадил на стул.- Не могу,
Ада...
Я почему-то подумала, что он решил надо мной
поиздеваться.
Обида целиком завладела мною, обида и
злость. Я стала бить Мишу по щекам, таскать за волосы. Он стоял на одном
месте и не сопротивлялся. Потом он схватил мои руки, оторвал от своих волос и,
хромая, пошел к выходу.
В дверях уже стояли нянечки с
носилками и видели, как я "добивала" Мишу.
По
госпиталю разнеслась новость: "Ада Казей и Миша Урсол
подрались".
Обстоятельства пришла выяснять доктор
Уварова - наша палатная и начальник отделения. Я ничего не стала объяснять,
ревмя ревела, а в душе была уверена, что Миша нарочно, в насмешку, отказался
нести меня.
Потом два дня подряд вызывали Мишу то к
начальнику госпиталя майору Капустину, то к замполиту
Синцову.
В результате выяснилось: когда Миша поднял
меня и сделал шаг, то ударился раненой ногой о выступ постамента, на котором
стоял огромный бюст легендарного сибирского партизана Каландарашвили.
Удар пришелся в самое болезненное место. Сказать мне об этом парень посчитал
для себя позорным: как же так, не смог выдержать пустячной физической
боли...
Потом Миша пришел ко мне с повинной, пришел
сам, как "настоящий мужчина", извинился, и мы помирились. Как приятно было
это примирение! И только одного не могу понять: почему я сама не признала
своей вины, если не перед начальством, то хотя бы перед
Мишей?
Кажется, в марте Мишу выписали, и он уезжал
в Горький, где формировались части для фронта.
Мы,
девушки, всем нашим друзьям, особенно тем, кто возвращался на фронт, всегда
что-нибудь дарили на прощание: носовые платки, кисеты, подворотнички,
бумагу, конверты, карандаши и прочие нехитрые вещички. Обычно вся работа
по рукоделию лежала на мне: я умела вышивать, вязать, шить. Меня уносили
вниз к сестре-хозяйке, и там я вовсю кроила и строчила на машинке "подарки".
Недостатка в материале для них не было. Цветные нитки, спицы, иголки,
обрезки материалов для кисетов, шерсть для вязания приносили мне шефы-жены летчиков из местного аэропорта. Подарки мы складывали в аккуратный
пакет, связывали лентой и надписывали: "Вскрыть в вагоне". В пакете были и
записки от нас.
Такой пакет мы вручили и Мише
Урсолу, когда он пришел в нашу палату проститься в день своего отъезда. Он
был обмундирован в "х.б." (как мы называли хлопчатобумажную форму), на
ногах обмотки и тяжелые солдатские ботинки с "железками", на груди
орденские ленточки и знак тяжелого ранения. Тонкую шею неплотно облегал
большой воротник гимнастерки. В форме Миша казался еще моложе своих девятнадцати лет.
В его пакет я вложила записку, которую
сочиняла всю ночь:
Только
потому, что ты уезжаешь на фронт и мы больше с тобой никогда не увидимся,
я могу сказать, что благодарна тебе за все. Сто раз я мысленно извинялась
перед тобой за свой дикий поступок, но вслух произнести не могла. Если бы
война так не изуродовала меня, я бы нашла тебя на фронте и воевала рядом с
тобой, Тогда бы ты убедился, что я умею не только таскать за волосы
мальчишек... Но что теперь об этом говорить. Прошу тебя, отомсти за меня
фашистам, отомсти, как только можешь. А я тебя никогда не забуду.
Ада.
Миша писал мне с фронта
большие, полные боевой романтики письма.
Попал он
на 1-й Белорусский фронт (какое совпадение!), брал Бобруйск. В последнем
письме сообщал:
Мы уже на
подступах к твоему Минску. Я вижу его очертания. Через несколько часов,
надеюсь, буду ходить по улицам, где, может быть, ходила ты. Как только
возьмем город, сразу напишу все подробности. Твоя деревня осталась где-то в
стороне, и я туда, пожалуй, не попаду. А как мне хотелось увидеть ее
собственными глазами, я ведь так живо представляю по твоим рассказам и
твой домик, и пруд, и парк, и графский замок, и старое кладбище... Но я верю,
что ты еще сама проведешь меня по своим родным местам. Мы с тобой встре-
тимся во что бы то ни стало, для того чтобы никогда не разлучаться. Ты
будешь ходить! А если бы ты даже и не смогла, я буду носить тебя на руках
(уж сейчас-то я не такой слабак!). Я бью фашистов на твоей родной земле,
освобождая ее. Со мной ничего не случится, не может случиться, пока ты есть
на свете. Запомни это хорошенько. Я буду жить
вечно.
При взятии Минска
Миша Урсол, мой славный рыцарь и мститель, был снова тяжело ранен. О его
смерти в минском госпитале мне уже потом сообщила палатная сестра. Три дня
он порывался написать мне письмо, но не мог и все повторял мое имя и адрес
почтового ящика.
Миши не стало, а я еще долго не
могла в это поверить. Ведь столько бывало ошибок во время
войны!
Но эти слабые надежды с месяцами, а особенно
с годами, рушились.
Через несколько лет я стала
получать письма от Мишиной сестры Марии Урсол из Ворошиловграда.
Выполняя волю брата, она звала меня к себе, писала, что в каждом письме с
фронта он упоминал обо мне.
И поныне мне дорог этот
славный паренек, в котором сочеталось столько благородства, искренности и
красоты.
Дорог и незабываем. Для меня он вечно
живой.
&nbs
p;Из иркутских врачей Аде запомнилась больше всего Елизавета Петровна
Уварова, очень мягкая, спокойная; она никогда не повышала голоса, была
скромна, а Аде милее еще тем, что очень походила на ее маму. Это сходство,
пожалуй, было не только внешнее, но и внутреннее. Темные волосы Елизаветы
Петровны были расчесаны на прямой пробор, так же, как у Адиной мамы, в ее
голосе всегда звучали ласковые нотки, и ласково смотрели на всех темно-карие
глаза.
Однажды Елизавета Петровна распорядилась
принести Аду в кабинет к главному хирургу Мееровичу. Вместе с ним они стали
измерять все части ее тела, предварительно гадая, какой "длины ей не хватает",
нужно было установить ее настоящий рост, которого она и сама никогда не
знала, для заказа протезов.
- Может, по знакомству
сделать тебя повыше? - пошутил хирург, слегка улыбнулся, посмотрел на Аду
и сразу посерьезнел.
Ей было не до шуток. Она теперь
все время только и думала о протезах...
В тот день Ада,
ни жива ни мертва, сидела на кровати, как японский бог, с колпачком из марли
на голове В палату вошли сразу хирург Меерович, Елизавета Петровна, старшая
медсестра Вера Михайловна Краюшкина, женщина с громовым голосом,
которую девушки про звали "Трубачом", няня Тося (всех нянь звали "тетями" а
эту пожилую ласковую женщину, мать двух взрослых сыновей, воевавших на
фронте, почему-то просто и любовно - Тосей). Тося несла протезы, которые она
со всей осторожностью поставила около Адиной кровати. Боже! До чего же они
казались страшными, бесформенными громоздкими: дерево, кожа,
никелированное железо... Множество каких-то шнурков, пряжек, ремней и засте-
жек... И это все вместо ее ног...
Ада уткнулась в
подушку и не хотела даже смотреть на них, не то что дотрагиваться. Как же она
теперь ощутила безысходность своей трагедии! Только теперь поняла весь ужас
своего положения! Нет чудес! Ноги вырасти не могут! А она все ждала чуда и
верила в него. Иногда засыпала с мыслью, что завтра... проснется с ногами. В
другой раз ждала чуда от хирургов. Стали вот говорить о Мееровиче, о его
"золотых руках", и снова зашевелилась какая-то смутная надежда: а может быть,
а может быть, эти руки смогут сделать то, что еще другим не
удавалось?..
И вот все фантазии, надежды развеялись
раз и навсегда в эти несколько минут, а действительность, собранная из желтой
кожи, дерева, железа, ремней, пряжек, застежек... вот она, и к ней надо
привыкнуть, принять ее. Если хочешь жить,
двигаться...
"Надо, надо, надо!" - стучало в сознании.
"Нет, нет, нет!" - отзывалось в сердце.
Часа через два
Ада заставила себя дотронуться до "них", взять в руки, рассмотреть. Поясной
ремень сняла, боковые помочи тоже, швырнула все это на пол: не хватало еще ей
этого - обойдется!
- Ада, что ты делаешь? -
испуганно вскрикнула Елизавета Петровна.- Это же необходимо, без них ты и
шагу не сделаешь.
- Сделаю,- упрямо отвечала
она.
Няня Тося и Елизавета Петровна, которые устали
ждать и спорить, подбинтовали Аде культи, всадили их в гильзы, сзади затянули
на икрах шнурки, застегнули на коленках по три ремешка с
пряжками.
- Ада, ну я прошу тебя, надень ремни и
застегни лямки! - упрашивала Елизавета Петровна.
-
Пожалуйста, не надо! - сказала Ада так тихо, что сама себя еле
услышала.
Натянула на протезы чулки и тапочки. Сидит
на кровати и не может, боится подняться. Ее смущает, что все смотрят и ждут...
Ждут... Протягивают ей наперебой руки для помощи, костыли,
палочку.
- Нет! Не нужно! Не хочу! Я
сама!
Наконец она решилась: взялась за спинку кровати
обеими руками и сразу встала, но тут же покачнулась. Кто-то ее
поддержал.
Сделала два шага, очень неуклюжих,
вразвалку, шатаясь, к столу и схватилась за него руками. Потом повернулась, не
отнимая рук, спиной к палате, лицом к двери. Ничего вроде. Немного необычное
состояние: голова чуть кружится, а сама себе показалась большой, почти
вровень с Елизаветой Петровной, Верой Михайловной и выше
Тоси.
Дверь Аду просто манила к себе, и тогда она не
выдержала: подозвала сестру и няню, взяла их под руки и очень просто дошла.
Раз так - пойдет в коридор.
Втроем дошли до порожка.
Долго она не могла переступить через него, не представляла, как это она согнет
ноги в коленях. Что же это такое: так вот и будет просить всегда, чтобы через
пороги переводили? И все же заставила себя согнуть ногу, поднять вверх и
переступить через это препятствие. Но выпрямить ногу снова не сумела. Словно
никогда и не знала, как это делается. Тут же села на стул. Сердце колотится от
напряжения, пот выступил на лбу, катится по спине. Она разом устала и ослабла.
Неужели это все? Надо бы еще, хотя бы немного...
Из
каждой палаты выглядывали раненые. И все ей желали удачи, подбадривали,
звали в гости.
Ей чертовски везло всю жизнь на
человеческое тепло и участие, а что больше поднимает
дух?
Она снова встала, сделала несколько шагов по
коридору, повернулась на сто восемьдесят градусов с помощью своих
"поводырей" и снова одолела порог. Она почувствовала, что бинт основательно
мешает ей: и зудит, и трет, и жмет.
Сняла протезы,
немного отдохнула. Никакие уговоры не могли заставить ее сейчас лечь в
постель. Тянуло ходить - и немедленно.
- Ну, Адочка,
отдохни,- уговаривала ее Елизавета Петровна,- нельзя же так сразу. То не
хотела, а теперь можешь переусердствовать и навредить
себе.
Трудные первые шаги были сделаны. И Ада
поняла, что пойдет. Будет упорно тренироваться, но во что бы то ни стало
крепко станет на ноги.
И появилась неотвязная,
обжигающая мысль: вернуться в бригаду! Она еще докажет, что сможет
воевать!
Сначала она еще ходила с кем-нибудь под
руку: с няней, и сестрой, с ранеными - "поводырей" было хоть отбавляй! На
третий день отказалась от них и стала ходить сама.
Не
обошлось и без курьезов: хочется идти прямо, а ее заносит то влево, то вправо.
От одной стенки оттолкнется, через несколько шагов уже держится за
другую.
Она понимала: надо учиться управлять не
только ногами, но и всем корпусом. Ходила очень много, врачи даже стали ее
ругать и назначали определенное количество часов для тренировок. Но не тут-то
было! Даже во время мертвого часа она не снимала протезы и перестала
ложиться в постель - ходила и ходила. Утомляться стала меньше, а потом,
через месяц, и совсем не уставала. Стала свободно брать "барьеры" в виде
порогов, лестниц, не говоря уже о палатах своего
отделения.
Теперь Ада стала "напропалую" ходить по
гостям, а через месяц-другой облазила все госпитальные уголки и закоулки, но
больше всего полюбила библиотеку. Столько книг! Как хотелось узнать все, что
в них написано! Запоем читала везде и всюду.
Позже
она стала ходить к тяжелым раненым: слепым читала книги, писала за них
письма, кормила, "неходячим" приносила
книги.
Однажды прибыла партия новых раненых, среди
них было много тяжелых. Из-за отсутствия мест их разместили в коридорах, и
Ада за ними сразу стала ухаживать. Несколько дней они принимали ее за
медсестру, некоторые, особо нетерпеливые, покрикивали (ей это даже нравилось!).
Что она сама находится на излечении, трудно
было догадаться: вид у нее был вполне "официальный", хромоты сразу не
замечали, одета была в юбочку и белую кофточку, а поверх них - медицинский
халат, который Ада сама себе смастерила в пошивочной госпиталя. Вышить свои
инициалы на кармашке и совсем не составило
труда.
Когда она убедилась, что может ходить подолгу,
сразу же написала письмо в Главштаб партизанского движения в Москву с
просьбой снова отправить ее в партизанскую бригаду, утверждая что вполне
здорова и в состоянии еще принести пользу
Родине.
Однажды начальник госпиталя сообщил, что
Главштаб запрашивает ее диагноз... Как она просила не писать правду!.. Но,
очевидно, просьба не помогла, так как вскоре Ада получила письмо от
начальника штаба партизанского движения Белоруссии Петра Захаровича Калинина. "Вы сделали все, что могли, для Родины,- писал он,- и Родина и партия
Вас не забудут. Как сообщили нам из госпиталя, по состоянию здоровья Вы не
можете сражаться в рядах партизан. За Вас бьются, и бьются неплохо, Ваши
товарищи и друзья по бригаде".
В отдельном письме к
начальнику госпиталя П. 3. Калинин обращался с просьбой по возможности не
комиссовать ее и оставить в госпитале до освобождения Белоруссии.
&nbs
p;...Я окончила бухгалтерские курсы, ускоренным темпом прошла программу за
девятый и десятый классы средней школы. Занимаясь самостоятельно, осилила
все гуманитарные предметы, а вот математика и физика без Миши "не
пошли".
Жила я теперь в госпитале "просто так", и это
меня мучило, хотя я была занята здесь полезным
делом.
Скоро я знала в городе все кинотеатры и театры,
бегала за билетами для своей девчоночьей палаты, а потом всех вела на новый
фильм.
Ходить по городу в халатах было, конечно,
неудобно (хотя случалось и такое), мы обратились к начальнику госпиталя, и он
разрешил держать в палате форменные платья.
Каким-то образом я обнаружила, что из столовой нашего госпиталя есть дверь, ведущая
прямо в фойе ТЮЗа, размещавшегося в соседнем здании. Купила билеты на всех
девчат, договорилась с администратором, что мы придем через эту дверь
раньше, чем начнут впускать зрителей. Пошумели в госпитале, но дверь нам
открыли.
Так мы приобщались к искусству. Для меня
это было открытием: актеров на сцене театра, а не в кино, я видела впервые.
Правда, привелось мне в ту пору увидеть актеров и ближе. В Иркутск был
эвакуирован Киевский театр оперы и балета. К нам в палату приходили актеры,
приглашали нас на спектакли своего театра, мы увидели и услышали и балет, и
оперные спектакли. Литвиненко-Вольгемут пела "Наймичку". Паторжинский
бесподобно исполнял роль Карася в "Запорожце за Дунаем". Мне был очень
близок и понятен колорит этих национальных опер, но меня трогали и "Тоска",
и "Кармен", и необыкновенно волновал балет.
Из
госпиталя меня упорно не выписывали.
Уже и Минск
освобожден, уже и Брест наш, а начальник госпиталя мне
говорил:
- Не спеши, напиши письма, получи ответы,
не ехать же тебе в никуда.
Я писала, но ответы не
приходили. Тогда я взбунтовалась и заявила:
- Не
выпишете, не комиссуете - убегу!
Что же, комиссовали
с заключением: "Не годна к воинской службе, признана инвалидом 1-й
группы".
Опять резануло это слово "инвалид". Есть же
такие слова, к которым мы никогда не можем привыкнуть, особенно если это
слово надо применить к себе. До сих пор не могу смириться: даже в мыслях не
считаю себя инвалидом.
Возник вопрос: куда
ехать?
Я хоть и писала, но не очень-то была уверена, что
меня ждут в Белоруссии. Марат и Леля сами угла не
имеют.
Неожиданно меня выручила диетсестра
госпиталя Виктория Ивановна, еще одна добрая душа.
В
Грузии, в городе Кутаиси, у нее жила родная сестра, в прошлом участница
гражданской войны, много раз раненная, а после отравления газами потерявшая
на десять лет зрение. Она работала в Кутаиси в горкоме партии. Виктория
Ивановна решила, что сестра ее сумеет помочь мне устроиться на жительство в
этом теплом городе. По заверению Виктории Ивановны, сестра ее - человек
слова и долга, широкий, и я невольно поддалась на это заманчивое
предложение.
С письмом нашей диетсестры десятого
июля я тронулась в путь в сопровождении тети Маши - вахтера госпиталя. Ей
было необходимо побывать в своем родном городе Краснодаре, куда она
намеревалась позже вернуться, разведать там все,
разузнать.
Восемь суток из Иркутска до Москвы я
больше провела на площадке. Вагон для раненых был битком набит. Ехала нестроевая братва из госпиталей. Среди них много офицеров и всего одна девушка
- я.
Ночью я кое-как укладывалась вместе с тетей
Машей на боковой полке, чтобы отдохнули ноги, а с восходом солнца выходила
в тамбур, усаживалась у открытой двери и заходила в вагон, только чтобы
перекусить у тети Маши "чем бог послал" из госпитального
"сухпайка".
На остановках спешила отоварить наши
карточки, отправить письма. Тетя Маша оказалась такой уж сопровождающей,
что как села в Иркутске, так только на пересадках и поднималась с
места.
На какой-то станции под краном с горячей водой
вымыла я голову, а потом впопыхах вместе с письмами опустила в почтовый
ящик и все наши продовольственные талоны. Поезд вот-вот тронется, тетя Маша
что-то орет мне из окна, а я понимаю, что мы пропадем в пути, и двумя
палочками стараюсь достать талоны. Удалось все же - благо, что почтовый
ящик был набит до отказа. Только забралась на площадку вагона, поезд
тронулся.
Опять вся Сибирь прошла передо мной: тайга,
реки, мосты, города, элеваторы, заводы, села, горы, поля, люди на телегах, в
лодках, за работой, пешие и конные, на тракторах и на автомашинах. Неужели
я видела Сибирь в последний раз?
Уже в Ростове я
почувствовала сильную боль в правой ноге: она распухла и не вмещалась в
гильзу. Ночью я сняла протез, а утром уже не смогла
надеть.
Кончились мои "походы" на станции и вокзалы,
кончилось "отоваривание" и сидение на подножке.
В
Тбилиси меня "по-барски" уложили на носилочки - и в комнату
санпоста.
Скоро за мной приехала машина "скорой
помощи".
Поместили меня в больницу
восстановительной хирургии для инвалидов Отечественной войны, что на
проспекте Плеханова, 62. Больных там было очень мало: в огромной палате на
двенадцать человек я одна. На следующий день я раздобыла костыли и ходила с
ними на одном протезе.
Тут никто особенно не
торопился. Только через две недели меня осмотрели и ведущий хирург, и
профессор-консультант: неврома, ее нужно удалять.
Я
сама хорошо не знала, что это такое, но чувствовала временами в ноге жгучую
боль, которая прошибала, как током, и отдавалась по всему телу судорожными
толчками.
Все начиналось
сначала...
И опять операция. Пятая! На этот раз еще
более сложная.
Пришла я в сознание только на вторые
сутки и случайно от ребят узнала, что лежу в палате
"предсмертников".
Смутно помню, что на стенке я
увидела очень уж розовый блик от заходящего солнца и затянутое какой-то
дымкой лицо моего врача. И опять впала в беспамятство. Сколько продолжалось
такое состояние, не знаю. Я пришла в себя и сразу почувствовала боль в руке от
укола.
Был уже день, и я лежала в своей
палате.
Все время в продолжение недели, сменяя друг
друга, около моей постели дежурили сестры. Кипятились иголки и шприцы, и за
эту неделю мне сделали, пожалуй, больше уколов, чем за все время в Монине и
даже в Иркутске. Недели через две мне стало лучше, были сняты швы, и хирург
настоял, чтобы я стала на протезы.
Я пошла по
коридору, постояла у окна, еще прошлась, а через полчаса у меня разошлись
швы, и в гильзе хлюпала кровь.
Прошли почти весь
сентябрь и половина октября, пока зажила эта рана.
В
конце октября мне вручили путевку на два месяца в сочинский санаторий
"Приморье".
НЕМНОГО РАЯ, НЕМНОГО
АДА
Многое в жизни у меня
было тогда впервые, впрочем, как и у каждого человека. Для своих лет я уже
кое-что повидала. О Сочи тоже наслышалась, но то, что увидела, превзошло все
мои ожидания. Вечнозеленые растения, доцветающие, но еще чудесные
олеандры, море, Ривьера, дачи, дорога на мацестинские ванны - сплошная
аллея длиной в тридцать километров; мне казалось, что я попала в настоящий
рай. Правда, еще шла война, но здесь о ней напоминали иногда только эскадры
кораблей на горизонте.
Санаторий наш стоял на самом
берегу моря. И день и ночь тут слышен морской
прибой.
Из окна своей комнаты я часами могла смотреть
на безбрежное, постоянно меняющее свою окраску море, на восходы и закаты
солнца, на небо, лунную дорожку, на весь этот праздник красок и
волшебства.
И вот здесь, в этом сказочном для меня
уголке, я особенно часто вспоминала папу и стала лучше понимать, как же ему
был всю жизнь дорог этот таинственный, грозный морской простор. У меня
было такое ощущение, что я вплотную придвинулась к морской
романтике.
В санатории долечивались фронтовики
после ранений и госпиталей. Я жила тем, чем жили здесь все
отдыхающие.
Мне именно нравилось быть не
"больной", а отдыхающей - это звучало куда лучше. Я принимала ванны, а в
остальном была предоставлена самой себе. Судьба и здесь не оставила меня без
друга: я очень сдружилась с Ниной Ионовой из Таганрога.
Маленькая, тоненькая, как тростиночка,
черноглазая, с чуть вздернутым носиком и аккуратной родинкой на щеке, Нина
легко бегала по берегу, пела, не умолкая, песни, была вездесуща - знала все о
каждом обитателе "Приморья"; заводила "симпатии" и часто исчезала на
свидания.
- Ах, Адка, я влюбилась! Как я теперь буду
жить?
И все же жила. Жила весело, улыбчиво,
искренне.
Ребята относились к ней чуточку с юмором,
безобидным и добрым.
А она, этот крошечный
"славнушок", как ее называл один из ее многочисленных санаторных
поклонников, воевала санинструктором в одной из частей морской пехоты, была
дважды ранена, контужена, вытащила из боя больше ста раненых, была
награждена орденами и медалями. И при всем при этом осталась милой
девчушкой.
Ко мне Нина почему-то очень привязалась,
и надо сказать, что сделала она для меня немало.
Меня в
ней покоряли искренность, прямота суждений, простота и какая-то наивная и
светлая радость и любовь к жизни.
Мы с ней были
почти неразлучны, жили вдвоем в комнате все эти два
месяца.
Было решено (как просто и быстро в то время
принимались самые серьезные решения!), что если я к концу декабря не получу
писем из Белоруссии, то поеду с Ниной в Таганрог.
И
вот однажды мне принесли целую пачку писем - штук семь или восемь. И все
из моего Станькова: они побывали в Иркутске, затем в Тбилиси, и чья-то добрая
душа отправила их оттуда в Сочи, прошив черной ниткой по одному краю, чтобы ни одно не затерялось.
Я плакала от радости и
счастья. Волнуясь, дрожащими руками вскрывала
конверты.
Писали мне двоюродные сестры Тамара и
Любаша, писали мои сверстницы-подружки - все звали меня скорей домой, выражали радость, узнав, что я жива, что существую...
Но
вот письмо от моей родной сестры Лели. Конечно же, там должно быть
несколько слов, написанных моим милым другом, братом, однополчанином
Маратом... Зовут ли они меня? Ждут ли?
Хотя письмо
хорошее, ласковое, но в нем нет ни приглашений в Станьково, ни строчки от
Марата, ни слова о нем...
Лёля сообщала, что работает в
сельсовете секретарем, живет у тети Веры, передает от всех приветы. И
все...
Я поняла, что ехать мне некуда. Оставалась
Нина.
Всем я написала ответы. Отдельно - письмо
Марату: учится ли он? Давала совет: поступить в нахимовское училище, чтобы
быстрее осуществилась его мечта - стать военным моряком. Просила написать
все-все о себе, о партизанах, о том, как они вышли из леса, кто и где сейчас из
наших общих друзей и знакомых, где Саша
Райкович?
Пришли свою
фотографию,- писала я Марату,- надо же мне привыкнуть к твоему
теперешнему виду, а то встретимся, и я тебя не узнаю. Только тогда, когда я
получу от тебя письмо, я приеду в Станьково. Где и у кого ты живешь? Как я
мечтаю добраться до старенького дома бабушки Зоей и поселиться в нем
вместе с тобой! Вместе нам ничего не страшно. Я буду ждать от тебя письмо
и фотографию..."
До
Таганрога ехали с Ниной на деньги, вырученные от продажи моих последних
вещей. Их было не так уж много, и все из Иркутска - там шефы "справили" мне
в дорогу костюм, пальто и три платья.
Таганрог
встретил нас множеством развалин - наследие фашистской оккупации. Но
одновременно и строящимися домами и учреждениями. И, как везде и всегда, я
видела новое, интересное: рядом с квартирой Нины уцелел и работал Дом-музей
А. П. Чехова. До этого я мало читала произведений этого писателя и еще меньше
знала о его жизни.
Это был первый музей в моей жизни,
и такой необыкновенный! Мне казалось, что Чехов только ненадолго вышел из
этого дома и вот-вот вернется. Передо мной открылся, вернее, пока только чуть-чуть приоткрылся скромный, застенчивый, добрый и умный человек. Все годы
потом мое представление о нем не изменялось, а только делалось глубже и шире.
Навсегда я влюбилась в этот писательский и человеческий образ, навсегда
пленилась его грустным и светлым юмором. Не будь Нины, Таганрога и этого
музея, может быть, никогда я бы так близко не познакомилась с милым Антоном
Павловичем Чеховым...
Я звала мать Нины бабушкой.
Может быть, она и не была такой старенькой, но очень часто в юные наши годы
люди среднего возраста кажутся нам стариками. Она тоже была маленькой, как
Нина, тоже такой же "славнушок"- энергичная и добрейшая. Говорила она,
правда, в отличие от своей дочери, очень мало, всегда суетилась, все куда-то
бегала, что-то искала и добывала. А искать нужно было многое: пропитание на
троих, топливо, спички, соль, курево для меня и Нины (проклятое курево - мой
вечный бич, с которым я веду настоящую войну все годы. Однажды заставила
себя бросить и не курила шесть лет), мыло, соду и еще десятки предметов
первой необходимости.
Жили очень бедно. Все, что мы
имели тогда: моя пенсия - сто пятьдесят рублей, пенсия Нины - сто двадцать
и бабушкина- тридцать. Плюс - хлебные карточки. Как это было ничтожно
мало, если буханка хлеба стоила на рынке ровно столько, сколько моя месячная
пенсия. Большей частью мы ели мамалыгу и фасоль. Каждый день я вертела
ручную мельницу, перетирая зерна кукурузы на крупу для
мамалыги.
Отапливались и обогревались "буржуйкой",
на ней же готовили пищу. Мы жили в одной комнате, другая была наглухо
заколочена. Вся мебель состояла из двух кроватей, стола и
"буржуйки".
Жили дружно. Но беды меня не
оставляли.
Снова открылась рана, да вдобавок я еще
заболела инфекционным гепатитом: желтуха словно решила добить меня и
обезобразить окончательно.
В больницу меня бабушка
не отдала и лечила дома народными средствами. Чувствовала я себя в этой
тесной комнатке, как дома, и вполне можно было бы сказать, что живу я в
тесноте, но не в обиде. Если бы не одно
обстоятельство.
Через какое-то время после приезда в
Таганрог Нина резко и скоро переменилась, она уходила куда-то, не ночевала дома. Это я еще могла понять и простить: и в Сочи за ней водились если не такие,
то подобные грешки. А вот то, что она грубила на каждом шагу матери,
вызывало во мне протест и возмущение.
Чаще всего мы
оставались с бабушкой вдвоем. Получилось так, что она стала относиться ко мне
лучше, внимательнее, чем к Нине. Дочери она боялась сделать малейшее
замечание, сказать хоть робкое слово упрека, зная, что в ответ получит брань и
слезы. Это было и в тех случаях, когда бабушка ставила меня в пример: Нину это
нервировало, и хотя она мне не грубила и не высказывала прямо свое отношение
ко мне, я чувствовала и понимала, что мешаю ей.
Я уже
не могла назвать ее "славнушком".
Молчать, терпеть и
поддакивать ей я не могла, мне было невыносимо жаль бабушку, и все во мне
восставало против такой неблагодарности Нины к доброй и безответной матери.
Для меня это было одно из самых первых и ужасных разочарований в
людях.
Лёля не обладает моей слабостью и часто
предостерегает меня. Вынуждена признать, что ее остережения много раз
оправдывались, а я бывала посрамлена. И все же, и все же я предпочитаю быть
обманутой, чем относиться предубежденно к каждому человеку на том
основании, что кто-то и когда-то обманул твои надежды, подвел тебя, оказался
не тем, за кого себя выдавал.
У меня даже появилась
мысль уйти на время в Дом инвалидов, но я быстро ее отбросила и решила: как
только смогу ходить на протезах, пойду в райсобес, где я стояла на учете, и в
военкомат и попрошу какой-нибудь угол для
жилья.
Денег у меня не было ни рубля - всю пенсию я
отдавала бабушке. Все мое имущество состояло из пальто, форменного
хлопчатобумажного платья, одной пары белья и двух пар обуви, сапожек и
ботиночек, сшитых шефами еще в иркутском ателье
индпошива.
Нина как могла наряжалась: перешила себе
шубку и несколько платьев из бабушкиных, а вот обуви достать было негде, и я
ей отдала свои ботиночки, которые ей подходили и
нравились.
В середине марта я уже смогла ходить в
райсобес, но мне там предложили только одно: идти в Дом
инвалидов.
Нет! Не могла я все же этого принять, как
бы мне ни было тяжело.
В моих документах была
справка об окончании курсов бухгалтеров, и я стала просить дать мне работу по
специальности: в этом случае позже я смогла бы получить и
жилье.
Пока я ходила в райсобес, пока мне подыскивали
место, пришло еще одно письмо от Лёли, в котором были такие
слова:
Если можешь, то
приезжай домой, как-нибудь проживем. Марат ходит в школу, занят, написать
тебе не может.
До этого Лёля
написала мне два-три письма, в них она сообщала, что Марат учится хорошо, и
еще что-то о нем писала, но ни в одном не звала меня к
себе.
И вот приглашение, пусть не очень настоятельное,
но оно повернуло мою жизнь.
У Нины я уже не могла
оставаться - это было ясно, хотя бабушка плакала, узнав, что я хлопочу о
комнате. Меня продолжало угнетать и отношение Нины к матери, да и ко мне,
угнетал мой образ жизни: одиночество, никакой "интеллектуальной пищи",
кроме разговоров с не очень словоохотливой бабушкой, и то чаще на
религиозные темы.
Безусловно, я и поныне благодарна
им обеим за участие и немалую тогда помощь: больше трех месяцев я жила у
них, и около двух - с открытой раной и
желтухой.
Угнетала и моя бездеятельность. Ну и грусть
по родным местам (я еще тогда не знала слова "ностальгия"). Я всегда-всегда
очень тосковала по своей земле, по лесу, по полянам и грибным местам, по речке
и пруду, а с тех пор, как узнала Полесье, то и по его весенним разливам, даже по
воздуху Белоруссии...
Вернуться туда для меня было
самой заветной мечтой и наибольшим
счастьем.
Начались хождения в райсобес, военкомат,
милицию; необходимо было оформить документы для отъезда - пропуск, паспорт, проездной билет. А тут еще беда: иду в паспортный отдел и боюсь
(впервые в жизни получаю паспорт гражданки СССР, а год-то рождения соврала
когда-то в отряде, и в моих документах он продолжал значиться
неверно).
Прихожу к начальнику паспортного стола и
все ему как на духу выкладываю (пусть уж будет что будет: или паспорт, или
посадит в тюрьму!). Он засмеялся, подал мне бланк и
говорит:
- Пишите свой настоящий год рождения,
зачем вам чужой, да и старше потом, когда взрослее станете, не захочется
быть.
Получила паспорт, пропуск тоже, через военкомат
выдали бесплатный проездной билет по железной
дороге.
Когда я уезжала из Таганрога, разыгралась целая
драма: Нина вдруг решила уехать со мной. Бабушка горько плакала. Я как могла
убеждала Нину, что не следует оставлять мать одну и что я еду в неизвестность:
кто знает, как меня примут в семье тети. Меня мучила совесть, что Нина
подумает о моей неблагодарности, но я говорила сущую правду. Я обещала Нине
по приезде тут же написать и, если будет возможность, послать ей вызов, чтобы
она смогла приехать в Белоруссию навсегда.
Я говорила
это искренне, а потому осталась себе верна: я писала Нине много и часто, но она
не отвечала. Я приглашала ее приехать, но она не
отзывалась.
К РОДНЫМ
ПЕНАТАМ
Дорога до Минска
была очень трудной: на западе еще гремела война и все было подчинено ее
неумолимым требованиям; железная дорога перегружена эшелонами с танками,
артиллерией, теплушками с солдатами.
Со мной был
небольшой, почти пустой чемоданчик (из тех деревянных, солдатских - под
замочком). В нем паек, полученный на дорогу, мои документы, фотографии,
письма, ситцевое платьице, полученное уже в таганрогском
райсобесе.
В военной форме я легко пристраивалась к
военным при посадках и пересадках и ехала все время с
ними.
Рана моя в пути снова открылась, но я твердо
решила не снимать протез и доехать до
Белоруссии.
Только в Бахмаче, под нажимом военных
ребят, с которыми ехала, зашла в комнату для раненых, и там мне сделали единственную перевязку за целую неделю, проведенную в
вагоне.
Трудной эта дорога была еще и потому, что весь
путь лежал по земле, по которой прокатилась взад и вперед война. Повсюду
развалины, пожарища, опустошение, развороченные доты и дзоты, торчащая
колючая проволока, поваленные столбы связи и линий электропередач, холмы и
холмики еще свежих, неухоженных могил. Вместо памятников на них лежали
каски, и кое-где на деревянных досках - надписи черным и красные звезды.
Земля развороченная, бесприютная, навевающая тоску и грустные
мысли.
Одно только утешало: эта земля уже
освобождена, вновь наша. Где-то здесь проходил, думала я, мой славный
мститель Миша Урсол...
В Минск наш поезд пришел
рано утром.
Собственно, никакого Минска, как я ни
старалась его увидеть, не было. Вместо вокзала дощатый барак. И кругом -
руины, руины, щебень, развороченный асфальт, груды кирпича, завалы на месте
бывших улиц, причудливо согнутые рельсы трамвайных линий, скелеты черных
автобусов, горький запах запустения, железа, пепла,
гари.
Только один Дом правительства Белоруссии
возвышался над грудами рухнувших зданий своей серой
громадой.
Я стояла с чемоданчиком в руке, смотрела на
бывший город, ничего здесь не узнавала, да и как было узнать! И все же была
счастлива: я дома, у себя, скоро увижу Марата, Лёлю, а потом земляков и своих
партизан.
Я давала с пути телеграммы и была уверена,
что меня кто-нибудь встретит, и в первую очередь Марат и
Лёля.
Но меня никто не
встречал.
Зашла в комнату для раненых: там было
довольно тихо и не тесно. Оставила там пальто, чемодан, вышла умыться под
краном, причесалась, села на скамейку.
Нет, у меня
было хорошее настроение, хотя и никто не встретил. Все равно на душе у меня
было удивительно спокойно, я отдыхала после дороги, чувствовала
необыкновенную бодрость. Нога, правда, побаливала, но это уже стало таким
привычным, что не особенно и беспокоило. Заживет!
Я
знала, что мамина родная сестра Лариса учится в Минске и живет по улице
Мопровской, 71. Предполагала, что Марат приехал из Станькова, ночевал у нее и
скоро придет. Он ведь не знает Минска, да и трудно сейчас добираться по этим
развалинам вместо улиц. А может, и Лёля здесь. Еще рано - подожду.
Транспорта в городе ведь никакого нет, а идти с Мопровской далеко, через весь
город.
Время бежало
быстро.
Ярко светило солнце, капало с крыши барака-вокзала, в воздухе появилась испарина.
Я вышла на
улицу - людей почти не видно.
Навстречу - мальчик
лет двенадцати-тринадцати. Посмотрела на него, вспомнила Марата в начале
войны. Может, и у него нет родителей... Я окликаю его, и он тут же
подбегает.
- Ты знаешь, где здесь Мопровская
улица?
- Знаю - это
далеко.
- Если я тебе уплачу и очень попрошу,
сходишь по адресу, который я тебе дам?
- А что
уплатишь?
- Дам деньги.
-
Что я с ними делать буду? Покупать негде и нечего.
-
Я дам тебе хлеба и колбасы.
- Ладно, схожу, давай
адрес. Но я не скоро вернусь, это далеко.
- Неважно, я
подожду. Ты отдашь открытку девушке и приведешь ее сюда. Пока я даю тебе
деньги, а вернешься - получишь хлеб и колбасу.
Я
вручила ему открытку, в которой просила Ларису прийти на вокзал. Мальчишке
отдала 25 рублей, единственную купюру, которая у меня еще
оставалась.
Прошло много времени. Только часа через
три вдали по улице, между развалин, показался тот же мальчик, а с ним рядом -
Лариса. Я чуточку заволновалась, но сдержала себя.
Мы
расцеловались. Я отдала мальчишке свою единственную булку (белую!), кусочек
колбасы, и он вприпрыжку побежал.
- Я думала,
Марат придет,- очень просто и обычно сказала
я.
Лариса промолчала.
- А где
сейчас Марат?
- Разве тебе не писали? Он погиб еще в
прошлом году, - тоже просто и обычно сказала Лариса.
...Все вокруг нее разом изменилось: солнце померкло и ручьи стали темными.
Ее охватило состояние пустоты и одиночества. Как она не поняла раньше, что
Лёля в письмах все время чего-то не договаривала! Да неужели за целый год,
учась в школе, Марат не написал бы ей письма?
Теперь
она осталась одна. Одна в этом огромном разрушенном мире. Вокруг нее тьма и
равномерный шум. Легко и внезапно она стала куда-то опускаться, как во время
наркоза. Не было ни слез, ни слов: она не могла разжать челюсти. Только бы
ничего не видеть, не слышать, сидеть не двигаясь. Как же дальше жить? Как
можно жить без Марата!
Только под вечер она
заплакала. Как она в это время нуждалась в искреннем участии, как была
благодарна Ларисе только за то, что та не отходила от Ады ни на минуту, крепко
обняла и прижала к себе. На этот раз Аде надо было выплакать много слез, она
только не понимала еще, что так до конца никогда не сможет этого
сделать...
Поздно вечером поезд уходил на Дзержинск, и
Ада с Ларисой пошли к вагону. Народу было много, они встали между
скамейками при входе в вагон. Стекол в окнах нет, света нет, лиц пассажиров не
видно, дверей нет, свободно гуляет ветер.
Люди ехали
степенные, завязывались дорожные разговоры, но они были вне ее сознания, она
воспринимала их голоса, как стук колес.
...В Дзержинск
они приехали поздним вечером. Лариса, отыскав попутчиков, пешком ушла в
Станьково. Ада осталась ждать на вокзале до следующего утра, пока за ней кто-нибудь приедет.
"Вокзал" - маленький домик. В
помещении ни души и ни одной скамейки. Только у окошечка кассы узкая,
маленькая лавочка. До полуночи она сидела на ней. Дремала, чуть не падая,
ухватившись руками за узкую эту дощечку на неровных ножках. Так прошла вся
ночь, так она встретила рассвет, смотрела не отрывая глаз в окно. Было
пасмурно, похолодало: на всем лежал тусклый, серый отсвет, ничто не радовало
глаз.
Уже совсем наступило утро, когда на дороге,
ведущей прямо к вокзалу, показалась лошадь, запряженная в розвальни. На них
различила мальчишку с вожжами в руках и женщину, укутанную в большой
платок. Ада не узнала их. Подъехали к самому
крыльцу.
- Мар-рат!
Он встал
на пороге тоненький и стройный, поверх стеганой куртки туго затянут
солдатский ремень. Сапоги... Военная шапка-ушанка, только без партизанской
ленты наискосок. Да нет за плечами карабина и гранат на
ремне.
Нет, нет, чуда не случилось! Это был ее
двоюродный брат. Его тоже звали Маратом. И ему тринадцать лет. И он очень
похож на ее родного брата. Только лицо более грубое, мужественное, и на носу
редкие веснушки.
Как ей ни больно было, но какое-то
тепло коснулось сердца. Марат бросился к ней, прижался холодной щекой к ее
лицу в неловком быстром поцелуе и тут же смущенно отошел в сторону, уступая
место Леле. Она обхватила Аду руками и плакала навзрыд. Кто-то приоткрыл
окошечко кассы, глянул на них и снова захлопнул
дверцу.
Ада смотрела, как Марат по-хозяйски, со
знанием дела правит лошадью (как ее Марат); говорит мало, не спеша (как ее
Марат). Она искала в нем сходство. И находила.
С этого
дня в ее сердце вошел навсегда этот второй Марат - сын тети
Веры.
Марат Константинович оказался таким же
мужественным и благородным, как Марат Иванович. У них оказалась и общая
судьба. Он героически погиб, бросившись в горящий дом вдовы фронтовика,
чтобы спасти ее маленьких детей: на него обрушилась крыша. Весь обож-
женный, он выбрался из огня с девочкой на руках. Одиннадцать дней еще жил
после этого, одиннадцать дней и ночей переносил боль и страдания, ни разу не
всхлипнув, хотя муки его были ужасны.
Это была для
Ады еще одна ничем не восполнимая утрата. И какое трагическое совпадение:
один погиб 11 мая 1944 года, другой в этот же день и месяц через пять лет - 11
мая 1949 года...
Подъехали к дому не с улицы, а со
стороны заднего дворика, обогнув церковь.
На крыльце
три тетушки, Вера, Мария, Лариса, смотрели, как она слезала с саней, как шла.
Ей и больно и неловко было под этими взглядами, но что поделаешь, нужно
было продемонстрировать самую лучшую "экс-походку", как говорили в
госпиталях.
Никто не выразил особой радости по
случаю ее возвращения к "родным пенатам", но никто и явного неудовольствия.
Приняли ее, видно, как неотвратимое, что же поделаешь -
война!
Минут через двадцать прибежал ее школьный
товарищ и спаситель из полесского болота, красавец и богатырь Костя
Бондаревич (работал он теперь в Дзержинске ответственным секретарем
районной газеты "Ленинская правда").
Тетки посидели
с ней немножко и пошли по своим делам. Не отходили от нее весь день,
угадывая все желания, только Марат и Костя.
К вечеру
ей стало плохо: трое суток она находилась в горячечном состоянии и не
приходила в себя.
По старой памяти лечил ее добрый
станьковский фельдшер Русецкий. Но и после целую неделю она лежала с
холодом на голове, и Русецкий по два раза в день приходил, делал уколы и
перевязывал рану.
Недели три она ходила на одном
протезе с самодельными костылями, сделанными Костей Бондаревичем в
столярке колхоза.
Поднималась утром раньше всех,
ковыляла к умывальнику, причесывалась, иногда ела, иногда оставалась
голодной. Садилась в комнате на продавленный диван и сидела весь день одна-одинешенька.
Все ее думы были о Марате. Когда,
измученная, засыпала, когда находилась в полузабытьи или лежала с открытыми
глазами - все Марат, Марат, Марат... И явь и сон путались в ее сознании. Она
видела Марата то совсем маленьким, каким запомнила его еще в люльке, семи-восьмимесячным, то чуть подросшим, то одного, то вместе с младшим братом
Кимом, то с матерью, то с отцом...
В дом зачастили
односельчане, преимущественно пожилые, посмотреть на Аду. Качали головами,
говорили: "Ах, боже мой, боже, вот несчастная уродилась",- и уходили.
По деревне пошло: сидит, как кукла, на диване,
молчит и смотрит, уставясь в окошко.
Что она
высматривала? Лёли целыми днями не было- уйма работы по деревням:
председатель сельсовета посылал ее туда вместо себя. Только вечером появится,
перекусит, переоденется - и в клуб. Тетка бочком обходила Аду: боялась
протезов.
Разговаривала Ада помногу только с Маратом.
В те дни это была ей самая родная и чуткая душа в доме; он готов был сделать
для нее все на свете. Меньшие дети сторонились ее и даже поддразнивали:
"Кульба", "Безногая".
Стоило ли на них обижаться? Но
обижалась. Обижалась и молчала.
Тетке на селе
сочувствовали: вот беда-то, мало того, что Лёля живет, и другая приехала,
приживалка, да еще какая... Тетке, как она понимала, тоже было себя
жалко.
Ежедневно после работы бывал у нее Костя,
привозил новости из Дзержинска, приветы от партизан, которые там работали в
районных организациях и все спрашивали, когда им можно приехать навестить
ее.
Просила Костю сделать так, чтобы никто к ней не
приезжал. Вот когда начнет ходить - другое
дело.
Несколько раз Костя напоминал, что он взял на
себя дополнительно в редакции газеты обязанности корректора, чтобы
сохранить эту должность для
Ады.
...В конце марта я пошла "на своих ногах" без костылей
и поехала в Дзержинский райсобес встать на учет.
В
районном аппарате на всех ответственных должностях были наши партизаны. Со
многими встретилась, все меня приветствовали, искренне радовались моему
выздоровлению. И эти встречи сильно подбодрили
меня.
Мне откровенно говорили, что не верили в мое
"воскрешение" и думали, что меня уже нет в
живых.
После поездки в Дзержинск все в моей жизни
изменилось.
Зачастили ко мне в Станьково друзья-партизаны, иначе я стала смотреть на мир и на
себя.
Появилась хоть и слабая, но надежда на
лучшее.
МАРАТ
Долго, очень долго я
не могла поверить в то, что его уже нет.
Но ведь Лёля
вместе с партизанами приехала в деревню Хоромицкие, где он, мертвый, лежал в
кустарнике - последней своей "крепости". Вместе со всей бригадой, под салют
выстрелов, они похоронили его... Как уж тут было не
верить...
А я не верила. Все расспрашивала, просила
припомнить подробности.
...Партизаны очень любили
молодого, храброго начальника разведки Володю Ларина, но гибель Марата так
всех потрясла, что Ларину, уже тоже мертвому, не могли простить, что он взял с
собой Марата. Как будто это было впервые...
Ларин
везде и всюду брал его с собой.
Но и один Марат не раз
пробирался в самое пекло к гитлеровцам, переодевшись в нищенскую одежду, с
сумой за плечами, и приносил в штаб бригады ценные сведения. Десятки, если
не сотни раз он подвергался смертельной опасности, но словно был заговорен -
целый и невредимый возвращался в лагерь.
Я
перебирала в памяти многое. Всю его жизнь. Жизнь всей нашей семьи. Свою
жизнь. И все было связано с Маратом.
Вдруг я
вспомнила, как он готовился к поступлению в первый класс. Ему были куплены
тетради, букварь, черный портфель. Тогда не было еще единой школьной
формы: мама сшила ему новый матросский костюм. Я говорю "новый", потому
что Марату с раннего детства шили матросские костюмы, И не только ему, но
даже Лёле и мне.
За несколько дней до начала занятий
мы втроем - Марат, Лёля и я - отправились фотографироваться в районный
центр, за десять километров от Станькова. Все трое в матросских костюмах,
шагали мы по пыльной проселочной дороге, возбужденные и радостные. Марат
шел впереди, нес в руках свои новые ботинки, важничал. И все просил меня
рассказывать сказки. Он очень любил волшебные сказки, которые я
придумывала сама.
Когда мы уходили из дому, мама
нам наказывала не торопиться, если мы устанем, сесть около дороги отдохнуть.
Однако мы забыли об этих наказах. Не только Лёля и я, но семилетний Марат
прошел туда и обратно без особого труда. Он даже сказал мне, что если бы я все
время рассказывала сказки, то он бы пошел и
дальше.
Мы сфотографировались, и этот снимок остался
нам на память - единственный, где мы вместе с
Маратом.
Он любил задорно и громко смеяться, петь.
Любил читать и берег книги, как все у нас в семье. Его книги пережили его, и
некоторые из них я передала музею. У него было прекрасное чувство юмора и
явные способности к копированию и подражанию. Однажды мы посмотрели
фильм с участием Чарли Чаплина в роли американского безработного. Долго
еще потом Марат копировал его походку, пел куплеты из кино-фильма.
Летом мы втроем любили бегать к небольшому
озерцу неподалеку от нашего дома.
На берегу стояла
чья-то старая лодка. Мы угоняли ее на середину озера, и там весело
разыгрывалась "трагедия погибающего
корабля".
...Больше всего, пожалуй, он любил лошадей.
Его знали все колхозные конюхи. Он помогал им чистить, кормить, поить и
особенно купать лошадей. Но пока научился ездить, не раз падал, однажды даже
сломал ногу. Это не напугало его. Через два-три месяца он снова мчался верхом
на лошади мимо нашего дома к реке.
И я любила
лошадей, ездила верхом и старалась не отставать от Марата, но куда мне было до
него...
...Первые дни войны. Отступают войска. В
военном городке остановилось небольшое подразделение пограничников. Мы с
Маратом сидим на скамейке во дворе у Нехаев. Тут же мои подружки: Нина и
Лида, Таиса, приятель Марата - Шурка.
Жарко, уныло,
солнце смотрит сквозь серую пелену неба.
Вдруг во
двор со стороны огорода входит военный. Одежда чистая, выходная, хромовые
сапоги, портупея блестит новизной. Он подходит к нам. Мы видим на петлицах
его гимнастерки по три красных кубика и маленькие бронзовые танки -
старший лейтенант танковых войск.
Военный
внимательно вглядывается в наши; лица, здоровается и
говорит:
- Не сумеете ли вы, ребята, покормить нас?
Наш танк подбили немцы, и я со своим взводом третьи сутки отступаем пешком
без еды.
Мы стали наперебой предлагать: молоко можно
принести из молочного пункта - он тут, рядом; хлеба понемножку возьмем из
дому. Марат вызвался сходить в центр села и привести тетю Катю, заведующую
молочным пунктом. Может, у нее найдется не только молоко, но и сметана, и
масло.
Командир согласился, велел Марату идти, а сам
сел рядом с нами.
- За хлебом потом сходите,-сказал
он,-поговорим пока.
О чем уж мы разговаривали - не
припомню. Но минут через пятнадцать - двадцать с одной и другой стороны
дома выскочили красноармейцы.
Мы еще ничего не
успели сообразить, как "старший лейтенант" шел с поднятыми вверх руками в
сопровождении наших бойцов.
- Спасибо, Марат! -
крикнул их командир.
Мы наперебой стали спрашивать
Марата, что случилось и за что его благодарит
командир.
- Вы думали, я за тетей Катей пошел? Как
бы не так! - засмеялся Марат.- Я сразу увидел, что это не советский танкист.
Заметили, какая у него новенькая и чистая форма? Это после боя-то! А что
экипаж танка он назвал взводом? А как кобура с пистолетом прицеплена? Почти
на животе - наши командиры так не носят...
...С
первых дней войны он очень изменился, наш Марат: стал молчаливым,
наблюдательным, немного грустным. На первый взгляд он казался каким-то
заторможенным, ходил медленно, даже начал сутулиться и всем своим обликом
напоминал старичка. Мы его даже стали звать
"дедом".
С утра до вечера он пропадал то в деревне, то
в окрестностях. Знал все новости и вечером обо всем докладывал маме, а когда
появился Домарев, то ему.
Днем он иногда находил
оружие в лесу или во ржи, и тогда вечером мы переносили его и прятали где-нибудь. Оно очень потом пригодилось
партизанам.
Однажды мы пошли вдоль шоссе далеко за
деревню и километрах в пяти от нее увидели труп убитого советского бойца. Он
лежал ничком, опустив лицо в небольшой родничок. Рядом с ним валялась
винтовка и подсумок с патронами.
Мы отыскали у него
в кармане гимнастерки черный пластмассовый футлярчик. Марат сразу
сказал:
- Это посмертный паспорт. Я видел такой у
лейтенанта Павлова. Посмотри внутри.
Я отвинтила
крышечку, вытащила из футлярчика бумажку, но она оказалась чистой, без
фамилии и адреса.
Винтовку и патроны мы взяли, тело
бойца оттащили к кустам и закрыли ветками.
Назавтра
мы пришли к этому месту с лопатой. Целый день рыли могилу и похоронили в
ней неизвестного воина.
Это была для нас с Маратом
первая могила войны...
...Когда в Станькове появились
гитлеровцы, Марат увидел однажды, как они тянули через поле линию связи.
Назавтра он позвал меня, и мы вместе перерезали ее ножом, а концы растащили
в разные стороны. Мама, не зная, где мы, стала нас разыскивать, а когда мы,
вернувшись, рассказали, почему задержались, внимательно посмотрела на нас,
ничего не сказала и, обняв Марата и меня за плечи, пошла к
дому.
...Когда уже арестовали маму и мы остались одни,
Марат однажды зашел в школу к учительнице Уржумцевой, которая учила
Марата немецкому языку. После занятий с Валентиной Васильевной Марат шел
домой, нес географическую карту полушарий. С этой-то картой и задержали
Марата два полицая.
Потом они, верхами на лошадях,
потащили Марата за собой на веревке в управу. Кто-то увидел это и прибежал
мне сказать.
Я бросилась к
управе.
Марат стоял с непокрытой головой, со
связанными за спиной руками. Полицай бил его пугой по лицу, по спине и
груди.
- Говори, гаденыш, куда нес карту? К
партизанам нес? Я стала плакать, умолять полицаев, бросилась к Марату, но
полицай и меня хлестнул.
- Дяденька, не бейте его, он
ни в чем не виноват,- умоляла я.
- Что ты просишь
этих гадов, Адок. Это же не люди, а звери.
Но я
продолжала кричать, пытаясь объяснить, что это карта полушарий и партизанам
она не нужна. Из окна управы выглянул Опорож и
крикнул:
- Эй ты, прекрати, ты мешаешь нам
работать!
К счастью, крики и плач услышала моя тетя
Вера. (Дом, в котором она жила, стоял напротив
управы.)
Она выбежала из калитки, в чем была, и, к
моему удивлению, так набросилась на одного полицая, что он попятился от нее,
увлекая за собой и Марата.
- Это ты за ребятишками
гоняешься? - кричала она.- Эй, люди добрые, посмотрите на этого
храбреца!
Народ действительно со всех сторон
подходил к управе.
- Отпусти немедленно мальчонку,
- кричала тетя Вера,- а то я тебе выцарапаю твои поганые глаза! Ты меня знаешь.- Тетя Вера вырвала Марата, толкнула полицая.- Беги, Марат, в избу! -
приказала она начальственным тоном и сама развязала ему
руки.
Марат побежал. Опорож снова выглянул в окно и
досадливо махнул рукой.
Посрамленные полицаи
вскочили на лошадей и стали палить из автоматов в воздух. Но почему-то
никому не было страшно, и все смеялись.
- Ну и
Верка,- говорили со всех сторон,- задала перцу полицаям. А ведь этот тип-то
к ней когда-то сватался, да она, вишь, Костика
выбрала.
- Нужен мне этот паскуда! Я ж всегда чуяла
в нем бандита. Бандит и есть. А что трус, так я это давно
знала.
Не окажись здесь тети Веры, несдобровать бы
тогда Марату.
...Уже в отряде как-то он сказал
мне:
- Увидишь, Адок, окончится война, и я выучусь
на моряка. А может, даже и на капитана корабля. Что ты смеешься: вдруг у меня
будет свой корабль? Помнишь, как в Станькове на
Усе?
Кто бы мог тогда сказать, что у моего брата
действительно через много лет будет "свой корабль" на Тихом океане, приписанный к Владивостокскому морскому порту? На корме его написано. "Марат
Казей".
...- Да ты не бойся за меня, Адок,- сказал он в
другой раз,- ничего со мной не случится. Ни одна пуля меня не возьмет. Я
секрет знаю.
- Знаешь секрет, а сам себя ранил,-
сказала я.
- Так то сам себя, нечаянно. Тут секрет не
действует. А тем пулям, что в меня немцы и полицаи посылают, только за
молоком летать.
Я вспомнила молодых советских
командиров, которые учили Марата и меня стрелять, разбирать, собирать, и
чистить оружие. Это было их выражение: "Пошла пуля за
молоком..."
Они научили меня и Марата пользоваться
ручными гранатами.
Я спросила
однажды:
- Марат, почему ты носишь на поясе
гранаты и не расстаешься с ними?
- Тебе не положено
знать. Не дамское это дело.
Я
обиделась.
- Ну ладно, Адок. Ты свой парень. Так и
быть, скажу. Одну гранату я ношу для фрицев, а вторую, если придется,- для
себя.
Меня
даже передернуло от этих слов.
- Что это ты выдумал,
Марат, глупости какие-то говоришь! - Уж не на шутку рассердилась
я.
- А ты что думаешь, я им живым дамся?
Никогда.
...Вот только сейчас я узнала о трех трагедиях
в отряде, которые произошли, когда я была на Большой земле. Марат не мог о
них не знать.
В нашем взводе был рядовым партизаном
бывший директор добриневской школы Бобок. Я хорошо его помнила. Как-то
командир роты отпустил его в деревню проведать жену. А в это время там
оказались полицаи. Бобок стал от них убегать через поле, а потом, ни разу не
выстрелив, хотя при нем был автомат, остановился и поднял
руки.
Полицаи привели его в деревню, пили там
самогон, а бутылки разбивали о голову Бобока. После они отрезали ему нос,
уши, выкололи глаза и в таком виде прогнали через всю деревню к мельнице, где
спустили под лед. Командир бригады Баранов издал приказ, в котором объявил
Бобока жалким трусом, принявшим позорную
смерть.
Но я думала сейчас не об этом малодушном
человеке. Я думала о славной нашей неразлучной четверке богатырей. О них бы
надо рассказывать много, подробно. О них бы надо писать книги, прославлять в
стихах... Если бы я только могла!..
К сожалению, до сих
пор знают о них только наши бывшие партизаны да близкие
люди.
Трое пришли в отряд из деревни Шикотовичи.
Брониславу Татарицкому (сейчас как-то и не верится) было всего 20 лет,
Владимиру Тобияшу и Жене Сороке - не больше. Тобияшь меньше ростом, чем
Бронислав, но тоже сильный, коренастый парень. В отряд они прибыли все
вместе, и вскоре их стали посылать на самые опасные задания. К тройке
присоединился (и стал командиром) Александр Баранкевич, прибывший из-за
линии фронта с партизанской группой Апоровича (Вишневского). Это именно
Баранкевича и звали Маршалом. Вчетвером они уходили к линии железной
дороги в "командировку" и через несколько дней возвращались, пустив под
откос эшелон с боеприпасами, а то и с солдатами, взорвав мост и разрушив
пути.
Через какое-то время фашисты уже обещали за
голову Маршала большой выкуп. Они даже с некоторых пор были уверены, что
в тылу у них действует какой-то настоящий
маршал.
Баранкевич был мужчина лет тридцати,
выглядел же он старше своих лет. Не только мне, но и своим "орлам" он казался
стариком. Широколицый, грузный, он часто болел малярией. В землянке во
время приступов на него наваливали груду одежды, да он еще просил, чтобы
сверху кто-нибудь "придавил собой". От малярии он спасался березовым соком,
который в землянку приносили прямо ведром. Маршал говорил хриплым и
грубым голосом, но был добрейшей души человек. Во время выполнения
задания по подрыву воинского эшелона Бронислав Татарицкий попал вместе с
Тобияшем и Сорокой в засаду полицаев и был ранен в ноги. Он скомандовал
своим друзьям отступать и стал их прикрывать огнем из автомата. Когда
кончились патроны, Татарицкий встал на свои раненые ноги и сказал, что
сдается. К нему подбежали несколько полицаев, и тут раздался взрыв гранаты.
Татарицкий погиб смертью храбрых. Об этом подвиге, конечно, знала вся
бригада, и в том числе Марат.
Я думала и о братьях
Чулицких.
...Однажды гитлеровцы узнали от
предателей, что два партизана пришли в село к связному. Это были братья
Чулицкие, Ваня и Леня. Они ночевали в сарае. Немцы окружили сарай и
потребовали, чтобы партизаны сдались. Но с чердака сараи раздались
автоматные очереди. Тогда немцы подожгли сарай со всех сторон и открыли по
нему пулеметный и автоматный огонь.
Пока горел
сарай, оттуда не переставали стрелять. Немцам удалось взять братьев Чулицких
только мертвыми, обгорелыми.
Трупы двух братьев для
опознания возили по всем селам и деревням, в том числе и в их родную
деревню.
Там жили отец, мать Чулицких, брат и сестра.
Они-то узнала, узнала вся деревня, но никто и словом не
обмолвился.
И об этом подвиге не мог не знать
Марат.
Спустя годы вместе с Ариадной Ивановной я
побывал в деревне Хоромицкие, где погиб Марат. Там я встретился с
Александрой Васильевной Аксёнчик и Аксиньей Романовной
Шакаль.
Марат пришел в дом Аксенчиков на рассвете
одиннадцатого мая сорок четвертого года. Было часов пять, не больше. Здесь
уже хорошо знали Марата, он бывал у Аксенчиков не
впервые.
В шинели, с двумя гранатами на поясе и с
автоматом на груди - таким вот он и запомнился Александре Ва-
сильевне.
- Принимаете разведчиков? - весело
спросил Марат.
- Как не принять, проходи, гостем
будешь. Угостим, чем бог послал, -отвечала мать
Шуры.
- Спасибо, угощать меня не надо, а вот
отдохнуть с часик мне было бы невредно. Только через час вы меня
разбудите.
- Отдыхай, отдыхай, голубь, разбудим,-
говорила мать, показывая на свою кровать.
Не
раздеваясь, не выпуская из рук автомата, он лег на постель. Все вышли из
комнаты и прикрыли за собой дверь.
Минут через
двадцать - тридцать на улице послышался шум.
Шуре
это показалось подозрительным: уж не немцы ли? Она выбежала во двор и тут
же, услышав выстрелы, бросилась обратно в дом, но в дверях столкнулась с Маратом.
Он выскочил на улицу, навстречу ему бежал
Владимир Ларин - начальник партизанской разведки,- за ним гнались
немцы.
Марат отпрянул назад, пробежал через двор,
перескочил изгородь и бросился в кусты.
В дом забежал
полицай, бывший партизан, ныне предатель Иван
Баранович.
- Сколько у вас было партизан? -
закричал он.
- Никого у нас не
было.
Полицай стал избивать Шуру и ее мать. Шура
пыталась закрыть своего грудного ребенка, который был у нее на руках. Ребенок
стал кричать, полицай пытался вырвать его из рук матери, но она так вцепилась,
что, пожалуй, никакая сила не могла заставить ее выпустить ребенка из рук.
Полицай плюнул, выругался и велел всем выходить во
двор.
За оградой шла стрельба, со всех сторон лесочек
окружали немцы и полицаи.
Через несколько часов
Аксенчики узнали, что туда, кроме Марата, прибежала местная партизанка
Татьяна Новакова. Она вместе с мужем приехала проведать своих малых детей.
Муж на лошади успел скрыться, а Татьяна спряталась недалеко от
Марата.
Так как события этого утра происходили на
глазах у многих жителей деревни, то до малых подробностей все стало
известно.
А было так.
Ларин
зашел к партизанскому связному Михаилу Шакалю. Как и Марат у Аксенчиков,
не раздеваясь, он лег отдохнуть, но жена Шакаля Аксинья Романовна, заметив
перебегающих поле немцев и полицаев, разбудила Ларина. Он убегал через
открытое поле к лесу, но пуля настигла его.
Немцев и
полицаев было больше сотни. Они окружили деревню, а потом, когда началась
стрельба, все стянулись к кустарнику, где залег
Марат.
Своих лошадей Марат и Ларин спрятали на
задах дома Лиходеевского. Дом этот стоял на отшибе, в километре от
села.
Шуре и ее матери было видно, как немцы и
полицаи все ближе и ближе подбирались к тому месту, где залег Марат. Многие
из них тут же замертво падали, но других это не останавливало. Слышали они,
как разорвалась сначала одна граната, потом и
вторая.
Стрельба сразу
прекратилась.
Татьяна Новакова была жива и даже не
ранена, когда к ней подбежали немцы. Они били ее чем попало, издевались над
ней, раздели донага, а после прикончили.
Над трупом
Ларина тоже глумились, он был весь исколот штыками и
ножами.
Полицаи рыскали по деревне, искали лошадей
и повозки, чтобы увезти убитых Маратом немцев и полицаев. Добрались они и
до хутора Лиходеевского.
Предатель Иван Баранович
увидел лошадь и велел ее запрягать. Когда лошадь выехала за ворота, Баранович
вдруг узнал ее и закричал:
- Это Орлик! Маратов
Орлик!
Баранович и гитлеровцы погнали Лиходеевского
обратно к сараю, а там стояла лошадь
Ларина.
Баранович и немцы тут же убили не только
Лиходеевского, но и его жену, его престарелую слепую мать и четверых детей,
один меньше другого.
Всех жителей деревни
Хоромицкие - и женщин, и стариков, и детей - стали сгонять на
площадь.
Против них построили немцев и полицаев,
поставили пулеметы.
Привезли на многих подводах (их
было больше десяти) трупы немцев и
полицаев.
Немецкий офицер, обращаясь к своим
солдатам и полицаям, сказал:
- Смотрите! Их всех
убил один мальчишка. Да, да! Не взрослый солдат, а мальчишка. Мы хотели
взять его живым, но он не сдался. Он бился до последнего патрона, до последней
гранаты. Он крикнул, что сдается в плен, и убил гранатой себя и всех, кто к нему
подбежал. Если бы вместо вас мы имели таких мальчишек, мы давно бы
покончили с партизанами!
Не понимая зачем, Шура
пересчитала мертвых немцев и полицаев на подводах: их было двадцать девять!
Офицер обернулся к жителям деревни:
- У кого
ночевали партизаны? Признавайтесь, иначе ни один из вас отсюда не
уйдет.
Шура стояла не дыша, почувствовала, что мать
толкает ее в бок и словно приказывает. "Шурочка, надо нам признаться, люди
безвинные пострадать могут".
- Повторяю! Если вы не
выдадите виновных, всех закроем вот тут (он показал на сарай), подожжем, и никто не выйдет. Вся ваша партизанская деревня до последнего дома сгорит. Все
вы сгорите. Я считаю до трех...
Только Шура
приготовилась с матерью выйти вперед, видят: подбежал к офицеру Головинчик,
тоже предатель, и быстро-быстро зашептал ему на
ухо.
Офицер что-то крикнул по-немецки и бросился бежать. За ним немцы, полицаи и подводы с
мертвыми.
Все стояли и ничего не понимали. Поняли
только тогда, когда в Хоромицких появились
партизаны.
Партизанский лагерь стоял всего в восьми
верстах от этого села, там услышали выстрелы, поспешили на помощь, но
опоздали.
Партизаны принесли убитых Ларина, Марата
и Татьяну.
Командир попросил рассказать, как все
произошло.
На Ларина и Татьяну было невозможно
смотреть, до того они были изуродованы. Марата, видать, они не тронули. Он
был без сапог, без шинели, лицо бледное, спокойное, с сурово сдвинутыми
бровями, только вся грудь разворочена и в
крови.
Командир, обращаясь к местным жителям,
сказал:
- Запомните навсегда нашего юного разведчика
Марата Казея. Он дрался и погиб, как герой, за нашу свободу, за вас и ваших
детей.
;В Хоромицких чтят память Марата Казея. После войны, когда позалечили раны,
отстроились, как-то пришли в себя, зажили мирной жизнью, собрали колхозники
деньги и своими силами поставили мраморный памятник, на котором" золотом
написано: "Здесь 11 мая 1944 года погиб четырнадцатилетний юный герой
Марат Казей, воспитанник станьковской школы Дзержинского
района".
Памятник стоит рядом с домом
Аксенчиков.
Навсегда этот мальчик, который нашел
свой последний приют у них в доме, живет не только в памяти Александры
Васильевны, но и в памяти ее детей. И будет жить в памяти
внуков.
В 1965 году судили в Минске
предателей.
Свидетельницей на суде была и Аксинья
Шакаль из Хоромицких.
Глядит Аксинья - вызывают
одного. Глаза быстрые: зырк-зырк; на нее глянул, и тут она его узнала. Это он
забежал к ним в дом, когда Ларин убежал, а дочка ее Маруся у стола стояла. Он
выстрелил в нее - попал в руку. А потом в дом к Шуре Аксёнчик побежал и там
учинял расправу. Ее и мать бил. Как же Аксинье не узнать его было, хоть и лет
много прошло.
Только стоит он перед судом и
говорит:
- Я мало зла принес. Только был, когда
ловили Марата.
- Какого Марата? - спрашивает
судья.
- Разведчика партизанского, мальчонку. Немцы
за ним очень охотились: просто неуловимый мальчонка был. И награды за него
обещали, и что хочешь. Вот и выследили его. Только он живой не дался.
Перебил нас видимо-невидимо. Да нас-то было, почитай, человек сто пятьдесят,
а он один. Патроны у него, видно, кончились в автомате. Так он подпустил всех
к себе поближе и гранатой их. Потом встал во весь рост и говорит; "Берите меня,
говорит, в плен". Тут еще несколько человек бросились к нему, а он снова
гранатой. Была, значит, у него последняя. Он ее занес над головой и взорвал. И
сам лег, и людей уложил. Судья говорит предателю:
-
А то и не люди вовсе были. Какие же это люди - сто пятьдесят человек против
одного мальчонки.
- Так мальчонка какой! Даже
немецкий офицер, и тот нас срамил, его в пример
ставил.
- А вы стреляли в Марата? - спрашивает
судья.
- Нет, не стрелял. Был приказ не стрелять в
него, а взять живьем. Мы его в кольцо окружили и, значит,
подбираемся...
- Как волчья стая? - говорит
судья.
- Чего уж там. Было это. Только я никому
больше зла не принес. А что Марат сгинул, так это он сам
себя...
Судья даже со стула своего
привскочил:
- Это как же сам? Значит, должен был на
поруганье вам сдаться?
- Да нет, гражданин судья, я,
конечно, понимаю...
- И не сгинул Марат. Жаль, что
вы этого не видели. Вас же по всему свету двадцать лет искали. А то видели бы
вы, что стоит теперь в Минске бронзовый Марат.
А он,
мучитель, голову опустил и все повторяет:
- Только,
гражданин судья, пусть я в Марате повинный, признаю это и казню себя, а
больше зла за мной нет.
Вот тут очередь и до Аксиньи
дошла. Спрашивают ее, кто из подсудимых ей знаком. Она сразу на него и указала. Говорит: а кто в Марусю, ее дочку, стрелял? А кто, говорит, до полусмерти
избил Шуру Аксёнчик, мать ее и дитя трех недель от
роду?
Побелел он, как известка, белый стал, головой
мотает, как будто и языка лишился.
- Что же вы,-
говорит судья,- узнаете эту женщину?
- Не помню,-
говорит,-чего,-говорит,-не было, война длинная, может, и
встречал.
- Встречали или
избивали?
- Не помню.
А тут
уж Аксинья разошлась.
- А помнишь, - говорит, -
как пострелял всю семью Лиходеевских? Детей малых не пожалел, старуху слепую. А за что? Лошадей своих Марат и Ларин оставили у Лиходеевских.
Помнишь,- говорит,- это или забыл?
- Я там,-
говорит,-не один был. Там и немцы и другие полицаи
были.
Вот так встретилась Аксинья Шакаль через
двадцать один год с одним из палачей Марата.
Эта
встреча была последней. Предателя приговорили к
расстрелу.
В конце войны мы решили перезахоронить Марата на станьковском
кладбище. Дядя Николай с друзьями съездили в лес, где он лежал в могиле
вместе с Лариным, и привезли останки Марата в новом красном
гробу.
Я потребовала открыть крышку
гроба.
Я должна была
убедиться.
Это был Марат. Его большая голова. Его лоб.
Его волосы.
Я отрезала ножницами немного его
льняных, шелковых волос. Теперь они хранятся у
меня.
Через несколько лет общественные организации
Белоруссии решили перенести прах Марата в центр
Станькова.
Хоронили его как
воина.
Пришли тысячи жителей района, пионеры и
комсомольцы, приехали из Минска руководители партии, правительства.
Пионеры и комсомольцы давали
клятву.
Артиллерийским салютом прощались с
Маратом! Теперь он навсегда здесь, недалеко от дома, в котором
родился.
И стало традицией: в День Победы, девятого
мая, каждый год на могиле Марата происходят
митинги.
ВОЙНА ОКОНЧЕНА! ПОБЕДА! НАКОНЕЦ-ТО!
Первым эту весть узнал по
телефону ранним утром дежурный по сельсовету комсомолец Коля
Котов.
Он бросился через дорогу и забарабанил нам в
окно.
В доме все сразу всполошились, забегали от
радости. Я быстро оделась. Народ высыпал на улицу. Все плакали от счастья и
от горя одновременно. Сколько его накопилось в каждой семье, в каждом
сердце! Люди крепились, не давали себе распуститься, а тут будто разом
прорвало...
Через несколько дней Костя увез меня в
Дзержинск, и я стала работать в редакции районной газеты корректором и
бухгалтером. Первое нравилось, второе душа не
принимала.
Сидели мы с Костей в одном кабинете, и я
постоянно чувствовала его заботу о себе. Голодали мы в ту пору отчаянно.
Получим с ним хлеб за неделю вперед, и за один день
съедим.
Помогать нам было некому, у Кости только
отец-старик в деревне, и нам приходилось
нелегко.
Когда в Станькове восстановили почтовое
отделение (это случилось только через полгода), я вернулась снова к тетке и
пошла работать на почту телефонисткой.
Зарплата моя
вместе с пенсией составляла сумму небольшую, а цены на все были
немыслимые. Стала выручать швейная машинка. Я слыла лучшей портнихой во
всей округе - заказов хоть отбавляй, модниц развелось тьма-тьмущая, и я зарабатывала прилично. Почти всю пенсию и зарплату, а главное - приработок,
отдавала тетке.
Я приоделась. Кое-какие платьица у
меня появились на смену форменному хлопчатобумажному, да и райсобес помогал одеждой. Обшивала я и тетушек, и ребятишек.
Раны
мои окончательно зажили. Я почувствовала себя крепче и морально и
физически. Жизнь стала заполняться общественными интересами: меня избрали
секретарем колхозной комсомольской организации и членом бюро
Дзержинского райкома комсомола.
Не могу представить
себе сейчас, как я всюду успевала: и на почте, и дома, и по ночам вместе с
комсомольцами работала на колхозном току во время молотьбы, и в сенокос
вилами помогала складывать сено в стога, вечерами умудрялась готовить с
ребятами самодеятельные концерты и спектакли.
На
моей обязанности в довершение ко всему лежала еще уборка в доме: протирать
окна, мыть полы, кормить свиней. Тетушка обзавелась хозяйством, и мне волей-неволей приходилось ей помогать.
В Дзержинск на
бюро райкома - семь километров туда и семь обратно - ходила
пешком.
Так продолжалось почти два
года.
И стала мне приедаться моя монотонная работа на
почте, однообразная, как "пустая" затирка на воде. "Да", "нет", "алло!",
"кончили?", "занято", "соединяю", "говорите". Вот и весь набор слов изо дня в
день, из месяца в месяц. Но особенно надоел дом, хозяйство, заказчицы. Если я
так долго не меняла этот тошнотворный уклад жизни, то только благодаря своим
комсомолятам и самодеятельности.
Но не могла же
такая жизнь продолжаться вечно!
Мне хотелось другого
- хотелось учиться, читать книги, к которым я так пристрастилась в
госпиталях, хотелось, наконец, просто более живой и интересной работы. Меня
вот, например, очень тянуло в школу. Каждый раз, когда я приходила туда,
какое-то необъяснимое волнение овладевало мною, и даже во сне я часто видела
себя учительницей.
Мой друг и советчик Костя
Бондаревич сказал как-то:
- И что ты тянешь резину
на почте? Ладно, ушла из газеты, тогда жрать нечего было, но теперь-то ты
отъелась. Свое дело надо любить. А ты почту не любишь, хочешь быть учительницей. Поезжай в облоно, они тебя направят в
школу.
И я поехала в Минск. Принял меня заведующий
облоно Константин Федорович Кошук, который и сейчас работает на этом посту.
Я рассказала ему о своей мечте.
Он сразу же предложил
мне идти в любую школу преподавать литературу и язык, а заочно поступить в
пединститут.
Нет, на это без специальной подготовки я
решиться не могла. Мои мечты дальше начальной школы не
шли.
- Смотрите, смотрите, Ариадна Ивановна (вот
уж я и Ариадна Ивановна - тоже впервые в жизни),- сказал Кошук,- я бы на
вашем месте согласился. А впрочем, может, вы и правы. Работайте в начальной
школе и учитесь заочно.
В институте мне дали
программу, по которой я должна сдавать вступительные экзамены на
филологический факультет. А сдавали тогда русский язык, литературу,
белорусский язык и белорусскую литературу, историю и
иностранный.
Посмотрела я эту программу - почти все
знаю еще с госпитальных времен. Кое-что повторила вновь, особенно поднажала
на немецкий.
И вместо того чтобы сдавать на заочные,
пошла на очные. Приняли меня на отделение белорусского языка и
литературы.
Так за каких-нибудь две недели жизнь моя
перевернулась - я стала студенткой.
Однажды на
встрече с комсомольцами Минска один юноша спросил
меня:
- Скажите, пожалуйста, Ариадна Ивановна, если
бы вам пришлось начать жизнь сначала, как бы вы прожили
ее?
Я растерялась от такого неожиданного вопроса.
Лично себе я таких вопросов никогда не задавала, да и бесполезное это занятие.
Наверное, мне надо было ответить, что я прожила бы ее так же, то есть все
повторила бы сначала. Но что-то помешало мне сказать
так.
Многое в моей жизни, как и в каждой жизни,
зависело не от меня и даже не от всех нас, вместе взятых,- война, например,
которая так перетасовала наши судьбы. Но многое, что зависело только от меня,
не стала бы повторять. Так, ни за что бы не стала
курить!
А хотела бы повторить свою студенческую
жизнь, вернуть те золотые денечки, но и то не все, не
все...
Сколько же непоправимых, к величайшему моему
горю, жестоких ошибок совершила я именно в это
время!
"Нет, нет и нет,- скажу я своей дочери Аде,-
уж ты-то, по крайней мере, будешь жить иначе, ты не повторишь моих ошибок".
Поэтому, пожалуй, польза была бы не в том,
чтобы мы задавали себе эти "проклятые вопросы", но в том, чтобы наша жизнь
учила детей...
Итак, я ответила, что хотела бы повторить
все хорошее и ни в коем случае ничего из
плохого.
Естественно, мне задали новый вопрос: "А что
было у вас плохого?" Тут уж я, используя свой педагогический опыт, ответила
весьма уклончиво в том смысле, что мне пришлось бы о плохом и о своих
ошибках рассказывать до утра.
Конечно же,
комсомольцы поняли это как шутку. А между тем я совсем не
шутила.
Не знаю почему, но студенческое общежитие я
восприняла в чем-то как продолжение всех моих госпитальных "путешествий".
Учась на первом курсе института, жила в комнате
с девушками четвертого курса. Девушки славные, но в комнате бывало всякое.
Учить их, делать замечания я не считала себя вправе - они были старше меня и
казались умнее.
Да и главная жизнь моя проходила в
аудиториях и кабинетах среди ребят и девушек своей группы. Почти все двадцать пять человек моих новых товарищей приехали сюда из села - все как на
подбор, скромные, старательные, неизбалованные. Группа эта отличалась
отсутствием "хвостов" или "провалов". В большинстве это бывшие партизаны и
несколько ребят - демобилизованных
фронтовиков.
Почти до половины второго семестра на
первом курсе никто и не догадывался, что у меня нет ног, хотя и знали, что я
партизанила. Ну, прихрамывала чуть - так это могло быть от
ранения.
С 1946 года ходила я на новых, довольно
аккуратных протезах, в сапожках, что тогда было модно, ходила быстро, без
усилий, без "раскачиваний", следила, чтобы "ноги" мои, не дай бог,
предательски не скрипнули, смазывала их подсолнечным
маслом.
Максим Верба, наш староста, заполнял какой-то список в деканат, и там была графа: имеет ли ранения, контузии,
инвалидность. Когда очередь дошла до меня, я ответила: да, имею инвалидность
первой группы. Максим удивленно посмотрел на меня и не поверил. Пришлось
объяснять и показывать пенсионную книжку.
После
этого в группе стали относиться ко мне бережно, а потом и на факультете.
Скоро, конечно, узнал об этом и весь институт.
Но
студенты - народ чуткий и товарищеский, и я никогда не чувствовала себя
хуже других и порой забывала о своей беде. Я ходила даже на физкультуру. Это
потом уже, узнав мою историю, преподаватель выдворил меня с занятий, раз и
навсегда поставив в моей зачетной книжке:
"Освобождена".
Если говорить, чего я не любила, то это
"не" придется повторить несколько раз: логику, психологию, политэкономию. А
вот философия, история, языки нравились.
Признаться,
училась я все же через пень-колоду, по принципу: учу, что
нравится.
Бывало и везение, как и у многих в
студенческой жизни.
...Сдавали на третьем курсе
советскую литературу. Все прочитано, кроме "Цемента" Гладкова и "Звезды"
Казакевича. "Цемент" одолела за ночь, иногда перелистывая страницы, а под
утро взялась за "Звезду", не окончила и уже в институтском коридоре
дочитывала взахлеб, обливаясь слезами. Как это все было близко, дорого, чисто,
как это отвечало моим мыслям, мечтам, всему пережитому; как этот Травкин
был похож на Сашу Райковича, и вообще - какая это была возвышенная и
святая правда! Тоненькая книжечка, и сколько же в ней ума,
сердца...
Сдавать пошла первая. Тащу билет. Открываю:
"Цемент" Гладкова. Эмансипация женщины по
роману.
2. "Звезда" Казакевича,
содержание.
Пожалуйста, получайте эмансипацию, я -
за эмансипацию. Вообще за равноправие, хотя и понимаю его своеобразно. Очевидно, я ошибочно думаю, что там, где есть любовь, есть эмансипация. Где есть
уважение - тоже. Но на экзаменах все это ни к
чему...
Скорее, скорее хочу рассказать вам содержание
"Звезды". Слушайте же, как жила девушка в эту тяжелую войну, как она
встретила мальчика-лейтенанта и как потеряла его... Я могу вам рассказывать
эту историю долго-долго. Все, что есть в тоненькой книжке, о чем недосказал
автор, а только намекнул.
Я могла продолжить рассказ о
жизни Травкина. Да, да, не о смерти, а о жизни, потому что я не хотела, не
принимала его смерти, как никогда не принимала и не принимаю смерть мамы и
Марата...
И все это я говорила не для пятерки, а потому,
что и сама только что раскрыла удивительные страницы. И не поделиться этим
невозможно. Неразделенная радость - даже и не радость.
Я хотела бы все это повторить. Всю жизнь я бы
не устала учиться и быть студенткой. Говорят, что раньше были "вечные
студенты". Счастливые!
Конечно же, теперь-то с моим
опытом я бы не позволяла себе пренебрегать логикой, да и за что не любить ее?
Теперь бы... Но стоит ли рассуждать о том, что было бы теперь, когда уже моя
дочь учится в университете?
И все же: я бы хотела
повторить и никогда не терять студенческую дружбу.
С
Максимом Вербой я дружила почти три года.
Простой
парень из самых глухих полесских мест, скромный, тихий, умница, человек
незаурядных способностей, Максим чем-то напоминал мне Сашу
Райковича.
Пожалуй, более идеального героя и не
сыскать. Искренний, честный, принципиальный, он никогда не рисовался, хотя
был единственным ленинским стипендиатом в институте. Все у него было в
меру, что называется, "ни убавить, ни прибавить", все "при нем". А внешне был
незаметен: среднего роста, кряжистый, немного косолапый, как молодой
медвежонок, да немного обезображенное ранением лицо. Но этого никто не
замечал, а видели его высокий, чистый лоб, ровные - один в один - зубы в
редкой и обаятельной улыбке, преображавшей все его лицо. Он словно одаривал
этой улыбкой, и вы уже не могли не верить, не симпатизировать
ему.
Более занятого студента, чем Максим, в институте
невозможно было сыскать: то готовит доклады и выступления, то хлопочет о
ком-нибудь из студентов, как староста группы, то помогает отстающему одолеть
предмет. А помогал он всем, кто к нему обращался. Студентом второго и
третьего курсов писал уже исследовательские работы по языкознанию, активно
участвовал во всех конкурсах по научно-теоретическим вопросам среди
студентов и почти всегда выходил победителем, был членом научно-лингвистического объединения при Институте языка и литературы Белорусской
Академии наук и ежегодно летом уезжал в экспедиции по сбору материалов
белорусских говоров и фольклора.
В общем, я могла бы
еще и еще перечислять все его добродетели, но прошу верить и без того, что был
он человеком на "круглую пятерку".
Все это я видела и
понимала.
В дружбе со мной, как и вообще в жизни, был
он исключительно скромен и чист. Он не скрывал своего "особого" отношения
ко мне, да и я тоже - об этом знали все студенты и преподаватели, относились с
одобрением и ждали студенческой свадьбы.
Но я
удерживала себя в "узде", продолжая сомневаться. Меня преследовал все тот же
проклятый вопрос: "Может, все это из-за сострадания ко мне? Может, и любви-то никакой нет? Он такой необыкновенный, умный, а что
я?"
Максим об этом ничего не знал, но, словно чувствуя
мои колебания, говорил:
- Хочешь, я встану перед
всеми и скажу, что люблю тебя? Я этого не хотела.
У
него не возникал вопрос: "Ада или товарищи?" - была я, были и товарищи.
Вместе мы готовились к занятиям, отмечали праздники, ходили в кино и
театры.
Во время сессии Лёля, которая к этому времени
вышла замуж и переехала к мужу, готовила на всех нас обеды, а мы впятером, по
строго заведенному плану, занимались, сидя вокруг стола, а то и на полу,
постелив старое одеяло.
С Максимом все было просто,
легко и хорошо до тех пор, пока он не заговорит о женитьбе. Но и тут, видя, как
меняется мое настроение, он замолкал или начинал говорить о другом. Никогда
между нами не возникало никаких споров. Я, более невыдержанная, могла
иногда вспылить, Максим же вел себя так, что все это незаметно сглаживалось:
он умел уступить, умел и привести меня "в чувство", да так, что я и сама этого
не замечала.
Девушки мне по-доброму завидовали и
были уверены, что я и Максим "хорошая пара". Они не могли понять, чего я
тяну. Если бы я могла это тогда объяснить и им, и прежде всего
себе!
С Николаем я познакомилась у нас во дворе. Он
служил солдатом в одной из минских частей и заходил к девушкам из соседнего
подъезда. Я сидела на лавочке и читала с увлечением книгу. Подошел солдат и
вежливо попросил разрешения сесть рядом. Пожалуйста! Я и не посмотрела в
его сторону. Он скромно сидел и не обращался ко
мне.
Может быть, через час он встал и
сказал:
- Я пойду.
Вот уж
действительно: мне даже стало смешно. Я успела забыть, что он здесь, да и какое
мне до него дело.
- Меня зовут Николаем,-
представился он. И это было смешно, но я чуть церемонно
ответила:
- Очень приятно. А меня -
Адой.
Подумаешь, называется, познакомились! И
откуда на меня напала учтивость, сама не понимаю. Скромный, славный паренек, служит в армии, носит солдатскую форму, ходит в увольнение, всегда
подтянут, аккуратен, выбрит. Я его уже несколько раз видела, вроде бы даже
знакомый.
В другой раз он вызвался помогать Лёле
колоть дрова. А потом и в квартиру зашел раз и два. Однажды это случилось при
Максиме. Я их познакомила. Максим принял его, как доброго знакомого. Ни у
меня, ни у него ничего дурного не появилось ни в мыслях, ни в отношениях друг
к другу.
Летом, когда я окончила уже второй курс,
Николай стал приходить чаще и в конце концов предложил "дружбу". Я рассердилась:
- Что это ты вбил себе в голову? Ты же
знаешь: я дружу с Максимом, да и не нравишься ты мне
вовсе.
- А я буду ждать,- тихо и скромно сказал
он,- буду ждать, когда понравлюсь.
Недолго-то
раздумывая я его просто выставила за дверь. Несколько месяцев он не появлялся
у нас. Уже началась зимняя сессия - вдруг заходит. Шапка в руках, как
милостыню просит у порога.
- Чего тебе? - не очень-то ласково встретила его я.- Уходи и не мешай мне
заниматься.
Ушел, нахлобучив шапку на самые брови и
надув губы. Потом вроде бы стал заходить не ко мне, а к Василию и Леле.
Максим встречался с ним запросто, по-мужски, ничего не подозревая. Не знаю
уж почему, но я не рассказала Максиму о "предложении" Николая. Да и зачем
мне расстраивать его: все и так ясно - я и Максим!
Так
длилось больше года.
Если бы хоть раз, один-единственный раз Николай позволил себе какую-нибудь вольность, какую-нибудь выходку, не послушался бы меня. Ни разу!
Весь
год, целый год ходит человек в дом, и если бы он был плохим, должно бы это
проявиться - пусть в малом, пусть в пустяке. Мне уже начинало казаться
иногда, что не Максим, умный, образованный, краса и гордость института, а вот
этот простой и славный парень мне больше "пара". Максим и сам еще не
понимает, что разочаруется во мне очень быстро, когда мы будем вместе, да и
"ноги" мои, мои "ноги"...
Я говорила себе самые
обидные слова, распаляла свое воображение, рисовала картины, в которых
Максим уже не выглядел рыцарем, а даже унижал меня. Это было настоящее
"самоедство".
Как и с Райковичем, слушая Максима,
принимая его слова, я тут же говорила себе: "Все это ерунда. Ты хороший, ты
добрый, ты щедрый, но не я тебе нужна. Если бы у меня были ноги..." Ох, эти
ноги! Я уже забывала о них, но до тех пор, пока не возникал вопрос о
замужестве. Николай - другое дело. Я сама буду его "лепить". Он неглуп,
выдержан, настойчив, скромен. Демобилизуется из армии, тоже сможет учиться.
Вот я его уже пристрастила к чтению. А что я могу дать
Максиму?
И это после трех лет искренней дружбы,
после того как Максим по нескольку раз в день прибегал ко мне во время моей
трехмесячной болезни, видел меня прикованной к постели, а потом в кресле-коляске, в больнице. Когда я пришла в институт после длительного перерыва, он
буквально сиял- на лице у него были написаны и счастье, и радость, и, пожалуй, еще больше любви ко мне. Это слово я говорю теперь с полным
убеждением, зная, что так оно и было.
Конечно же,
каждый человек, совершая ошибки, потом пытается докопаться до
первопричины. Я тоже пытаюсь это сделать.
Максим
очень нравился моим родственникам. Николай же - нет, хотя он был красив,
услужлив, понятен им, "без затей", но очень уж
несамостоятельный.
Так случилось, что Максим вскоре
уехал в экспедицию... Вернее даже, сначала он уехал в Москву: как лучшему из
лучших, ему дали бесплатную туристскую путевку, что тогда, в пятидесятом
году, было редкостью; а потом - в
экспедицию.
Николай же всегда был рядом. Я
заглядывала себе в душу и сама себя убеждала, что люблю его! И чем больше
думала, чем больше размышляла, тем больше сама себя обманывала. И вот
Николай стал для меня как будто самым близким человеком.
Я уже не отвечала, не могла отвечать на
письма Максима.
Вернувшись из экспедиции, Максим
прямо с вокзала забежал ко мне. Он был прежний, только загорелый,
оживленный, а я уже не могла с ним быть такой, как всегда. Он что-то понял, а
может, просто решил, что я "не в настроении", и
ушел.
А в сентябре мне пришлось все рассказать Лёле.
Скрывать от нее уже было нельзя: я поняла, что
беременна.
Николай еще служил в армии. Он ждал
демобилизации, продолжал часто бывать у нас. Прибегал счастливый, любящий.
А Максим вел себя по-прежнему. Он занимал мне
в аудиториях место рядом с собой, помогал в учебе, бегал за книгами в
библиотеку, внешне был ко всем ровен и спокоен, кажется, даже еще бережнее и
лучше относился ко мне, чем прежде. Только вот домой ко мне он больше не
приходил.
В октябре Николая демобилизовали, и мы
оформили наш брак официально. Свадьбы не было.
В
этот день Максим прошел ко мне в мертвой тишине через всю аудиторию и
пожелал счастья. Все студенты молча, затаив дыхание смотрели на нас, и я
чувствовала, что все на стороне Максима, что все осуждают
меня.
Максим впервые не сел со мной рядом.
Отношение всех ко мне изменилось, стало просто официальным. Некоторые
прямо говорили:
- Ты хоть подумала, что сделала? Эх
ты, такого парня променяла!
Я еще цеплялась за то, что
они не знали Николая. Зато они хорошо знали Максима. Я цеплялась, но
недолго.
Лёля и Василий уехали в Магадан, оставив нам
свои две комнаты в бараке.
С первых же шагов
совместной жизни с Николаем не было ни одного светлого дня: Лёля была права,
он оказался совсем не семейным человеком, взбалмошным, упрямым да к тому
же выпивохой. В декабре он настоял, чтобы я ушла из института.
- Жена должна сидеть дома,- заявил он,- а не
бегать черт знает где.
Я отнеслась к этому довольно
спокойно: мне тяжело было ходить в институт, видеть осуждающие взгляды
студентов и некоторых преподавателей. А главное, я не в силах была каждый
день встречаться с Максимом, ежиться под его пытливым взглядом, отвечать на
его приветствия, мучиться и вздрагивать от каждого слова, обращенного даже
не ко мне.
Дома мне не было житья от соседей по
бараку, где вся жизнь на виду, где нет тайн. Все словно сговорились, в один дух
повторяли:
- Что же это ты, девонька, натворила? Ни
люди, ни бог тебе не простят.
Все они знали Максима и
всегда восхищались им. Знали они и Николая. Соседи меня любили, жалели -
люди простые, бесхитростные и по-житейски умные.
В
конце декабря ко мне пришел Максим - узнать, почему я не хожу на занятия, и
принес стипендию.
Деньги я взять отказалась, а свое
отсутствие в институте объяснила тем, что у меня нет аттестата зрелости, и я все
равно не сумею получить диплом.
Он сидел
необыкновенно грустный, тихий, какой-то пришибленный.
- Как тебе живется,
Ада?
- Хорошо. Очень
хорошо!
- Ада, я тебя очень прошу: вернись в
институт, ведь все еще может наладиться. Мы всей группой поможем тебе сдать
на аттестат зрелости.
- Теперь уже - всё. Теперь мне
никто не поможет,- сказала я с отчаянием, забыв, что мне "очень
хорошо".
Максим вдруг резко поднялся и
убежал.
Назавтра ко мне заявилась вся наша группа, не
было только Максима. В один голос ребята убеждали меня вернуться в институт.
В том, что у меня в жизни совсем не хорошо, почему-то были убеждены. Знали
уже, что Николай пьет, кто-то из студентов, сбывая на толкучке до стипендии
пару сапог, оставшихся с фронта, встретил Николая, торгующего зажигалками.
Он ведь работал на заводе слесарем и, оказывается, "подхалтуривал", как только
мог. Каждодневные выпивки требовали денег...
Ребята
жестоко упрекали меня:
- Ты даже не знаешь и не
предполагаешь, как огорчен Максим, что ты бросила учебу! Убить такого парня
у тебя хватило смелости, а вернуться в институт ты не
можешь.
- Поэтому и не
могу.
- А мы говорим - вернись, исправь все, что ты
натворила. Максим тебя по-прежнему ждет и верит в
тебя.
- У меня ведь скоро ребенок
будет.
- Ну и что? Ребенок! Максим будет ему
хорошим отцом, не то что этот твой пьяница!
Вот так
все просто и ясно было им, моим друзьям, моему благороднейшему
Максиму.
Только мне было все неясно, а может быть,
просто стыдно, меня захлестывала беда и безвыходность, и я никуда не могла от
них уйти.
Если не уйти, то хотя бы скрыться от всего на
свете я решила в старом моем приюте - в Станькове. Сидела там, как в норе, у
тетки, снова шила и копила деньги к родам, на приданое моему будущему
человеку.
В конце апреля вернулась в Минск. Через
несколько дней родилась дочка - всего два килограмма весом, маленькая и
слабая. Николай пошел ее регистрировать в загс, да не дошел: свалился пьяным,
сопротивлялся милиционеру, подрался и чудом ушел от
суда.
Целых два месяца после этого девочка не была
зарегистрирована. Вызывали в исполком, оштрафовали на сто пятьдесят рублей.
Ничего не поделаешь: пришлось ему второй раз отправляться в загс. На этот раз
дошел, но вместо Анны, как я хотела в память о маме, записал девочку
Ариадной.
В мае ко мне снова заходил Максим: его
книги все еще были у меня. Сидел и, не спуская глаз, смотрел то на меня, то на
Адочку. Так ничего не сказав, взяв книги, ушел.
После
этого мы с ним встретились в институте только через три года. И то это была
случайная встреча - в буфете. Максим уже кончал аспирантуру, а я после
длительного перерыва - четвертый курс института.
Мы
стояли, оглушенные, друг перед другом и не могли ни разговаривать, ни
двинуться с места. Максим был бледен, думаю, что и я не лучше. Но все же
первым пришел в себя он. Мы сели за столик, но есть не
могли.
- Вот ведь встретились,- сказал Максим,
насильно улыбаясь,- ты молодец, что решила все же закончить
институт.
- Ну, какой там молодец: пропало три
года.
- Наверстаешь. Тебе, наверное, трудно сейчас
втягиваться в учебу? Может быть, надо помочь?
- Нет,
не надо. Я уже втянулась.
- А как
дома?
- Так себе.
- И ты
долго думаешь так жить?
Я молчала: на это уж и вовсе у
меня не было ответа.
За все прошедшие годы мы
встречались случайно еще два или три раза. И всегда пугались, бледнели, как
преступники. Только последний раз, три года назад, мы говорили более спокойно. У Максима все улеглось, хотя он много лет не женился. Теперь у него
уже двое детей. После присвоения мне звания Героя в шестьдесят восьмом году
ко мне пришла одна из моих однокурсниц. Она передала, что Максим очень
радовался этому. И передавал свои поздравления. Я благодарна Максиму за все.
И знаю, что, виновата перед ним. Только очень редко я позволяла себе
вспоминать обо всем, что могло быть, но не случилось, "не
задалось"...
А задалась мне иная жизнь, иная судьба, от
которой, как мне казалось, никуда уже не уйти.
Учиться
моему мужу было некогда: карты, водка... Дома по любому поводу скандалы,
оскорбления. Только вот странность: упреки во всем и за все, но никогда, ни
единым словом или намеком о моих ногах. Может быть, только на это и хватало
у него ума, да и то, пожалуй, потому что знал: этого бы я ему уж не
простила.
Надо было что-то придумать, на что-то
решиться.
В 1953 году приехала в отпуск Лёля с мужем.
Она стала уговаривать меня закончить институт, обещая материальную
помощь.
Иногда человеку нужен только небольшой
толчок, чтобы опомниться и взяться за ум.
Надо было
браться за ум и мне.
В институте, несмотря на
трехлетний перерыв, меня сразу же восстановили на четвертом курсе.
Ошеломленная, счастливая, как вновь родившаяся на свет, приходила я в
аудитории. Мною овладела такая жадность к лекциям, книгам, какой, пожалуй, я
не испытывал даже на первом курсе.
Когда я окончила
институт, Николай стал терпимее. Нет, он не оставил совсем ни пьянства, ни
других своих привычек, но я уже была довольна даже тем, что появились
длительные "просветы", а значит, и надежда на
исправление.
Не стоит, пожалуй, перебирать все мои
усилия сделать из него человека. Мне все казалось, что я его сумею "привести в
чувство", усовестить. Иногда силы и уверенность оставляли меня. Был даже
случай, когда я не только решила уйти, но с помощью директора школы, где
работала после окончания института, получила ордер на однокомнатную
квартиру. Может быть, на этом бы и кончилась моя семейная жизнь, если бы не
случай.
В нашей школе работала молодая учительница
Галина Павловна Морозова. Жила она с мужем и сыном на частной квартире и
мучилась без постоянной жилплощади уже несколько лет. Конечно, учителя в
школе узнали, что я получила ордер, все меня поздравляли, поздравила и
грустная Галина Павловна. Мне стало почему-то так совестно, что я не могла
найти себе места ни днем, ни ночью. Назавтра я отказалась от ордера и
попросила переписать его на Морозову. Уже значительно позже нашей семье
дали двухкомнатную квартиру.
Вскоре у нас родился
мальчик.
Боже! Что это был за ребенок: одни косточки и
кадычок, как у старичка. В больнице твердо и бесповоротно решила: как бы мне
ни было трудно с двумя детьми, но больше с пьяницей жить не стану.
Вернувшись домой, объявила об этом Николаю. Он принял мое решение
безропотно и стал жить отдельно. На время бросил пить, пытался даже
проявлять заботу о ребенке. Но мне уже было все равно: я больше не верила
ему.
На этот раз я уже сама регистрировала сына, сама
дала ему имя. Хотела назвать Маратом, но передумала: каждый день повторять
это дорогое, незабываемое, мучительно горестное имя двух погибших Маратов...
Пусть лучше будет Андрей.
После декрета я взяла в
няни к ребенку девушку и вышла на работу. В то же время загорелась желанием
поступить в аспирантуру. Все подготовила, написала реферат по
языку.
Помешал уход няни. Андрюше было десять
месяцев, но няня боялась приходов пьяного Николая и покинула меня. Тут уж я
поняла, что даже "сосуществование" в одной квартире
невозможно.
Мы развелись.
Ни
разу за прошедшие годы Николай не делал попытки встретиться с нами. И я все
реже и реже вспоминала о нем.
Только во сне иногда
всплывает все: я просыпаюсь, как от кошмара, долго не могу прийти в себя и с
детской полузабытой радостью понимаю, что это сон. Ужасный сон. И ничего
больше.
Еще на третьем курсе института, мы, студенты,
проходили в школах педпрактику: сначала пассивную, потом зачетную и
стажерскую, по предмету и по классному
руководству.
Мой первый зачетный урок в шестом
классе прошел хорошо.
Немного сложнее было с
классным руководством. Меня и Лену прикрепили классными руководителями к
6 "В" классу женской школы. Девочки отличались воинственностью и непослушанием; класс считался худшим и по успеваемости и по
дисциплине.
Первое время классные руководители
опасались даже войти к ним: крик, смех, шум, залихватский свист. Лена вела
математику, а я - все остальные предметы. Но мало-мальского контакта с
девочками мы найти не могли.
И вот накануне
празднования Дня Советской Армии я предложила завучу провести беседу с
нашими подопечными девочками на тему: "Дети в годы Отечественной
войны".
Нечего говорить о том, как я волновалась: это
ведь мое "зачетное мероприятие". Как буйные девчонки отнесутся, как будут
слушать, станут ли хоть сидеть молча: не разговаривать, не петь, не свистеть? О
большем уж я и не мечтала.
Я постараюсь построить
беседу по всем правилам: расскажу сначала, как началась война. И не просто,
как началась где-то, а в наших родных местах, в моем Станькове. Потом - дети
в тылу страны и дети на фронте и в партизанских зонах. И не просто дети, а
впервые я расскажу о судьбе пионера Марата Казея. Это ничего, что о нем еще
почти никто не знает, я постараюсь рассказать все спокойно, правдиво, как оно
было. Это ничего, что он мой брат, и дело даже не в этом: он ваш товарищ,
скажу я им, он был в таком же возрасте, как вы, и он отдал за вас
жизнь...
Когда я стала говорить о Марате, класс
замер.
Я стояла перед ребятами и боялась одного:
только бы не разреветься. Впервые вслух я говорила о самом дорогом, о самом
больном и поняла, как это невероятно трудно.
С тех пор
я выступала сотни раз на встречах с пионерами, школьниками, комсомольцами,
и не было случая, чтобы я не волновалась. Не было случая, чтобы ком не
подступал к горлу. Только ни разу я не дала своему горю вырваться наружу. Да,
это мой брат, моя боль, но и моя гордость. Разница, пожалуй, только в том, что
сейчас имя Марата Казея знают дети не только в Белоруссии, но и во всей
стране. Это имя носят улицы в городах и селах, школы, пионерские отряды и
дружины. Это имя носит корабль на Тихом океане. За эти годы я получила
тысячи писем, и в каждом из них и горе, и боль, и гордость за
Марата.
Ничего особенного я не говорила, просто
вспоминала о нашем детстве, о том, как пришел Марат в партизанский отряд, как
он ходил в разведку, переодевшись в рваную одежду, с холщовой сумой за
плечами. И как он погиб.
...Я уже закончила свой
рассказ, а класс не двинулся с места. Тишина такая непривычная, что просто
даже и не верилось. Потом поднялась староста класса и попросила меня рассказать побольше о партизанах. Это уже было совсем не по плану, но, наверное,
часа два, без всякого перерыва, я рассказывала о нашей партизанской
бригаде.
И с тех пор мы с Леной были в классе
желанными гостями, девчонки стали неузнаваемы. Мы приходили к ним
свободно и смело.
И я и Лена поняли, что главное в
нашей будущей работе- заинтересовать ребят, не бояться раскрыться перед
ними, видеть в каждом человека и будить в нем человеческое,
доброе.
С таким же настроением я прошла практику на
четвертом курсе, когда через три года снова вернулась в
институт.
С этим же настроением переступила порог 28-й школы Минска после окончания
института.
Настроение-то у меня действительно было
такое же, но некоторая уже обретенная уверенность вдруг исчезла. Одно дело,
когда ты студент, ребята часто и помогают тебе, и сочувствуют, "болеют" даже
за твою отметку на практике, расценивая ее в некотором роде как свою. Другое
дело, когда ты приходишь в школу "новенькой" преподавательницей. Тут уж
заново держи экзамен и перед учениками, и перед
учителями.
Под конец моего первого урока поднялся
такой шум, что я уже не могла перекричать класс. Подхожу к доске, пишу
задание на дом. Звонок, спасительный звонок. Но почему, почему такой шум,
почему повскакали с мест? Пытаюсь успокоить, чтобы произвести "урок
окончен", но не тут-то было...
Вышла из дверей
под громкий смех, свист, хлопанье партами. Неужели это все из-за моих ног? За
весь урок я нарочно не присела для того, чтобы не подниматься. И теперь на все
годы сохранилась эта привычка - уроки провожу только стоя. Не так уж и
заметно. Как это жестоко и несправедливо... Почему они перестали меня
слушать?
Слезы душили меня, и я еле успела дойти до
учительской, чтобы не разреветься в коридоре.
Только
через несколько лет узнала от бывшей своей ученицы, что ребята смеялись и
шумели потому, что им уже все давно было ясно и понятно, а я продолжала
быстро-быстро, ничего не видя и не слыша, повторять заученный материал. И
говорила я так смешно, по-ученически, как это делают все зубрилки, даже
закрыв глаза.
В этот первый год моей работы я так и не
могла до конца наладить дисциплину на уроках. Дети быстро раскусили мягкость моего характера и, конечно, по-своему использовали мои слабости и
отсутствие опыта. А подчас и сами меня учили.
Часто
посещали мои уроки и директор, и завуч. Сколько терпения проявили они,
"натаскивая" меня, иногда не в силах понять, что же происходит. При них
дисциплина на уроках была идеальной, меня слушали и слушались. Без них иной
раз поднималось бог знает что.
На второй год было уже
полегче. Я не могу сказать, что и сейчас так уж легко работать. Но поведение
учащихся никогда не беспокоит меня. Я не добиваюсь мертвой тишины, зная,
что она может быть в двух случаях: из-за страха перед учителем или из интереса
к уроку. Предпочитаю второе. Но если подчас в классе стоит рабочий шумок или
стихийно разгораются споры, считаю, что это не так уж
плохо.
МУЗЕЙ
Прошло около
тридцати лет со дня гибели Марата, а его имя и до сих пор объединяет всех
оставшихся в живых партизан "Двадцать пятого" отряда и всей бригады имени
Рокоссовского.
В 28-й школе Минска создан музей
Марата Казея. Все здесь собрано и сделано ребячьими руками. Это плод их
многолетних поисков и усилий. Директор музея, экскурсоводы, "технички" -
на всех этих должностях пионеры. Есть только один взрослый человек в
дружном коллективе энтузиастов - почетный директор музея Ариадна
Ивановна Казей.
Каждый год в конце декабря друзья
Марата собираются в 28-й школе.
Поседевшие
партизаны, при всех орденах и медалях, стоят в шеренге и принимают парад
юных маратовцев. Проходят пионеры отряда имени Марата Казея и тех, кто
борется за это звание.
Ветеранам и гостям торжественно
прикрепляется к груди, рядом с орденами и медалями, алая ленточка со значком,
изображающим памятник Марату Казею в
Минске.
И все испытывают при этом чувство
необыкновенной гордости.
По традиции после линейки
в актовом зале проходит торжественное
собрание.
Боевые друзья Марата рассказывают, как он
жил и воевал в отряде. Особенно тепло всегда говорит о Марате бывший
командир партизанского отряда имени 25-летия Октября Иосиф Иосифович
Апорович, известный в годы войны под кличкой
Вишневский.
Впервые он встретился с Маратом в его
родной деревне Станьково.
В начале ноября 1942 года,
когда отряд только-только начал свою боевую деятельность, Апорович с
группой партизан, пришедших из-за линии фронта, отправился в Станьково,
чтобы установить связь с тамошними подпольщиками.
Они собрали нужных им людей, беседовали с
ними о возможности организованной партизанской борьбы с оккупантами и
предложили тут же вступить в отряд. К ним подошел мальчик лет двенадцати-
тринадцати и стал проситься, чтобы и его зачислили в парти-
заны.
Для отряда это была тяжелая пора. Да и никто не
мог поверить, что из этого худенького мальчонки может выйти хороший боец.
Не очень-то хотелось командиру отказывать этому мальчику, тем более что он
тут же узнал его печальную историю.
Апоровичу
рассказали, что мать Марата Казея (это был он), Анна Александровна, была
схвачена гестаповцами как активная подпольщица и казнена год назад на
площади Свободы в Минске.
Марат смотрел на
командира такими преданными глазами, что он должен был собрать всю свою
волю, чтобы не сдаться.
Нет, не могли они взять на себя
такую обузу.
Через несколько дней - это было 11
ноября 1942 года-с внешней заставы партизанского лагеря Апоровичу
доложили, что задержан какой-то мужчина. Им оказался житель Станькова
Николай Казей, который попросил принять его в
отряд.
Каково же было удивление, когда из-за кустов
вышел мальчонка. Это был Марат.
- Что же ты его
привел сюда? - напустился Апорович на Николая Казея.- Он твой
родственник?
- Племянник. Но я его не приводил.
Просился он - это правда, да я ему велел оставаться, а он, вишь, увязался. Я
его, окаянного, и не видел даже, и патруль ваш его не
видел.
Тут уж командир на патруль напустился: как это
мальчик мог незамеченным проникнуть в лагерь? Те только разводили руками и
в оправдание свое говорили, что это, видно, очень ловкий мальчонка, если так
неслышно прокрался.
Патрульных Апорович все же
наказал, а Марата и его дядю решили зачислить в
отряд.
До сих пор сохранилась у него тетрадь личного
состава отряда. 11 ноября 1942 года он сделал здесь запись: "Марат Иванович
Казей, 1929 года рождения, житель д. Станьково, Дзержинского
района".
К этому времени в отряде уже имелась своя
швейная мастерская и мастер Иосиф Гроданс, который, как сам о том любил
рассказывать, шил в Варшаве мундир "самому Пилсудскому". Вот и приказал
Апорович этому знаменитому мастеру сшить новому партизану, Марату Казею,
шинель, брюки галифе и гимнастерку "не хуже чем Пилсудскому". Разведчики
раздобыли ему шлем-буденовку, и через несколько дней юный новобранец преобразился.
Форма на кем сидела как влитая, и носил он
ее так аккуратно, подтянуто, ловко, как будто уже давным-давно привык к
ней.
Мальчик оказался серьезным,
дисциплинированным, исполнительным. При проверке знаний материальной
части оружия он обнаружил такие знания по винтовке, автомату "ППШ" и
нагану, что присутствовавший на занятиях начальник штаба отряда Егоров
только диву давался.
С первого же дня, когда Марат
таким неожиданным образом проник в расположение отряда, разведчики решили
взять его к себе, шутили: "Ничего, будет сыном
разведки".
Ежедневно рано утром Марата можно было
увидеть в конном взводе разведки. Он задавал лошадям корм, носил в ведре
воду, а после скребницей и щеткой чистил каждую лошадь. Лошади знали и
любили Марата.
Поначалу никто и не думал отпускать
Марата на задания. Но начальник разведки Парамонов все чаще стал приставать
к Апоровичу, к комиссару отряда Мартысюку и начальнику штаба Егорову,
чтобы они разрешили взять Марата в "настоящее дело". Командование наконец
сдалось: он внушал им доверие. Парамонов добыл ему маленькую заморенную
лошадку. Через две-три недели ее невозможно было узнать: шерсть у нее
блестела, как шелковая, грива расчесана - волосок к волоску, круп гладкий,
голову держит высоко. "Ишь ты, не бежит, а танцует",- шутили партизаны. Так
и окрестили ее - Танцоркой. Парамонов и один старый партизан-шорник,
которого все звали дедом Талашом, умудрились снять с какой-то старой шлеи
медные бляшки и сделали Марату седло и уздечку с "овсяным" набором - на
загляденье. "Ну, парень, настоящий казак!" - восхищались в отряде, глядя, как
юный разведчик гарцует на своей Танцорке.
Первого
декабря 1942 года отряд был построен на поляне для принятия партизанской
присяги. Короткая это была присяга, и Марат произносил ее
тоже.
- Я, партизан отряда имени Двадцать пятой
годовщины Октября, перед лицом своих товарищей клянусь бить врага
наверняка и живым врагу не сдаваться.
Торжественный,
он стоял впереди всего отряда. Все с лаской смотрели на юного пионера,
который первым давал клятву. И хотя в тот день все уже верили, что этот
мальчик не посрамит чести партизана, никто еще не знал, что он станет
гордостью и знаменем отряда на вечные
времена.
Шестое декабря, воскресный и очень
морозный день, тоже был памятным.
До этого Апорович
посоветовался с комиссаром отряда Мартысюком, и решили провести
демонстрацию отряда с красными флагами по деревням Новая Родина, Глинищи,
Даниловичи и Станьково. Надо было показать силу партизанского движения.
Гитлеровцы распускали слухи, что в лесу прячется горстка "воров" и "бандитов". В отряде уже было до двухсот человек, неплохо вооруженных и
одетых.
Когда в лагере был построен отряд для выхода
на демонстрацию и вынесли из штабной землянки красный флаг, к Апоровичу
подошел Марат и попросил разрешения нести его впереди отряда. Командир
согласился.
Стояла снежная
зима.
Расстояние от лагеря до деревни Даниловичи -
десять километров - Марат шел впереди отряда и отказался кому-нибудь
передать знамя, как его ни уговаривали.
Путь был
нелегкий, по глубокому снегу. Командир уже раскаивался, что дал мальчику
знамя с тяжелым древком. Но в Даниловичах он не только забыл о своем
раскаянии, но понял, что поступил правильно.
Все
жители деревни - и стар и млад - высыпали на площадь. Здесь провели
митинг, рассказали об успехах Красной Армии на фронтах и о размахе
партизанского движения в тылу у врага.
А потом уж так
получилось, что молодежь окружила Марата, стоявшего с флагом, и
расспрашивала о жизни партизан.
И тут партизаны
увидели нового Марата, которого еще не знали. Он с таким жаром и увлечением
рассказывал о боевых делах партизан, о том, как принимал присягу, что
комиссар отряда Мартысюк сказал Апоровичу:
- Ты
только послушай его, Иосиф Иосифович, он же прирожденный
агитатор.
После Даниловичей, уже имея опыт,
партизаны прошли еще две деревни и закончили митингом в Станькове. Тут
Марата все знали, да и в отряде уже было около пятидесяти
станьковцев.
Результаты этого праздничного шествия не
замедлили сказаться. Население этих деревень с охотой стало помогать отряду
питанием и вооружением, усилился приток
добровольцев.
Демонстрация навела страх на немцев и
полицаев. Гитлеровцы пустили новую молву: в станьковском лесу находятся не
партизаны, а большой десант регулярных советских
войск.
Партизаны и не пытались никого разубеждать:
пусть будет так. Гитлеровцы уже боялись показываться где-либо в одиночку или
небольшими группами, как это было раньше, а вблизи леса и вовсе не
появлялись. Население вздохнуло свободнее, немцы
притихли.
К этому времени относится первая
самостоятельная разведка Марата, которая принесла отряду большой
успех.
На торфопредприятии в Мелешеве был
расположен немецкий гарнизон. Мелешевский торфозавод обеспечивал целиком
электростанцию в Минске. Сам гарнизон был укреплен бревенчатыми
засыпанными землей дзотами. Взять этот гарнизон в открытом бою с силами
отряда и вооружением в ту пору было
невозможно.
Пока решили уничтожить шефа-комиссара
торфозавода и его охрану, когда они будут возвращаться из
Минска.
Но когда именно он
поедет?
Этот вопрос обсуждался в штабной землянке в
присутствии Марата.
Сначала начальник разведки хотел
ехать в разведку сам и взять с собой Марата.
Но Марат
вдруг предложил другой план. Он переоденется в одежду нищего мальчика и
пойдет в Мелешево один. Там он узнает, когда машина выйдет в Минск и когда
примерно будет возвращаться.
Апорович заколебался.
Отпустить мальчика одного на такое опасное дело было очень
рискованно.
Марат смотрел на него умоляюще своими
большими синими глазами и все время повторял: "Вы не бойтесь за меня,
товарищ командир. Вот увидите, я все сделаю незаметно для немцев, они даже
не догадаются. Я ведь по-немецки понимаю".
Занятия с
учительницей не прошли даром. За полтора года Марат действительно стал
неплохо понимать немецкую речь. Для разведчика, да еще мальчика, это было
неоценимым качеством.
Марат так настойчиво просил
Апоровича, Мартысюка и Егорова, что они
уступили.
Шестнадцатого декабря, на рассвете, Марат
переоделся в какие-то лохмотья, ловко сшитые из старья все тем же Иосифом
Гродансом, нацепил на себя две сумы из мешковины, основательно выпачкался
и отправился в свою первую самостоятельную
разведку.
Шел он якобы в Минск, потеряв родителей, к
своей тетке.
Благополучно пробрался в гарнизон, пел
немцам песни, и они "платили" ему за это кусками
хлеба.
Марату удалось узнать, что семнадцатого декабря
утром шеф-комиссар с охраной уедет в Минск и будет возвращаться вечером в
шесть-семь часов.
Вечером шестнадцатого декабря
Марат вернулся в лагерь и обо всем доложил.
Апорович
дал приказ начальнику разведки и командиру второй роты Сундукову выйти с
ротой в район гарнизона Мелешево и сделать там
засаду.
Сведения, добытые Маратом, были
точны.
Семнадцатого декабря в семь часов вечера
идущие из Минска машины были обстреляны из засады. Убиты шеф-комиссар и
десять человек охраны. Взята автомашина, оружие, боеприпасы, приведены в
лагерь два пленных немца, от которых были получены очень ценные сведения.
Своих потерь партизаны не имели. Марат тоже
участвовал в этой засаде.
Позже Марат еще не раз ходил
в разведку, используя свой "маскарадный" костюм. Но бывал он и в конной
разведке, при всей своей партизанской форме.
Однажды
он вернулся из такой разведки, приведя в поводу Орлика - лошадь начальника
разведки Парамонова. Самого Парамонова убили немцы. Марату удалось,
отстреливаясь, скрыться.
Орлика решили отдать
Марату, Так он и воевал на Орлике до последнего своего дня, одиннадцатого мая
сорок четвертого года. Но это и многое другое произошло уже тогда, когда
Марата взяли в бригадную разведку.
26 декабря 1970
года лауреат Ленинской премии, автор памятника Марату Казею в Минске
Сергей Иванович Селиханов преподнес музею макет
памятника.
Самый юный подпольщик Минска, потом
воевавший вместе с Маратом в бригаде имени Рокоссовского, Саша Остроухов
подарил музею свою фотографию того
времени.
Минский художник Юрий Нежура, который
уже давно бескорыстно и влюбленно работает для музея, создав большое
количество полотен, посвященных Марату, его матери Анне Александровне и
всей партизанской бригаде, на этот раз написал картину "В последний путь".
Мы увидели на полотне незабываемый момент, когда боевые друзья навсегда
прощались с Маратом.
До слез всех растрогала Зоя
Васильева - в годы войны и она была маленькой
партизанкой.
История ее тоже
примечательна.
До войны она училась в Минской
экспериментальной хореографической студии при Театре оперы и балета, в
классе народной артистки БССР Зинаиды Анатольевны Васильевой. Зоя
участвовала в декаде белорусского искусства в Москве в сороковом году, когда
ей было всего двенадцать лет. В конце сорок второго года мать увезла Зою в
деревню Скворцы, недалеко от Станькова. Зоя жила там в семье партизана Петра
Корочуна.
После того как под новый сорок четвертый
год гитлеровцы сожгли хутор Подболотье, где пряталась семья Корочуна, Зоя
упросила командира отряда Апоровича принять ее в отряд и была с отрядом до
самого изгнания немцев из Белоруссии.
Она очень
подружилась с Маратом, в шутку их называли женихом и невестой. Это их
обоих очень смущало.
Маленькая "артистка" Зоя
полюбилась партизанам. Как все, она несла службу: стояла на посту в заставах
по охране лагеря, носила и расклеивала листовки в селах.
А вот в свободное время всегда пела и танцевала
для партизан. Что уж говорить: она казалась всем просто непревзойденной
артисткой.
Был такой
случай.
Стояла Зоя на посту внутри лагеря и видит, что
на нее идет запряженная в повозку лошадь, а на повозке лежит человек. Вместо
лица у него кровавое месиво и красная борода.
Зоя
очень перепугалась, но тут неподалеку оказался Марат. Человек заговорил. Это
был дед Талаш. Зоя и Марат привели лошадь к штабной землянке, все партизаны
сбежались сюда и услышали страшный рассказ деда
Талаша.
Гитлеровцы поймали его в деревне, куда он
ездил за продуктами для отряда, отрезали ему уши, нос, выкололи глаза,
вырезали на лбу звезду, а потом положили на повозку, нахлестали лошадь, и она
привезла этого изуродованного, истекающего кровью старика в лагерь. Фашисты, смертельно ненавидя и боясь партизан, сделали это для устрашения, но
вызвали такой гнев, что все рвались отомстить им. В любую засаду, в любую
операцию было столько добровольцев, что командованию отряда стоило
больших усилий сдержать и направить этот боевой
порыв.
Годы и годы прошли с тех
пор...
И вот мы стоим в классе-музее, и каждая вещь,
каждая фотография, каждая картина здесь много говорит нашим
сердцам.
Сколько любви, старания, розысков
потребовалось для того, чтобы создать этот музей!
Вот
морской костюмчик совсем маленького Марата, чудом сохранившийся у
родственников. Партизанская шапка Марата с красной лентой. Его стеганка, в
которой он пришел в отряд. Вот его "нищенский" костюм и сумы, с которыми
он ходил в разведки... Его кобура от нагана, подаренная им одному из
партизан.
Его письмо сестре Аде в госпиталь на
Большую землю, написанное детским старательным
почерком:
Здравствуй,
сестра Ада! Пишу письмо уже третье, получила ли ты два предыдущих? Я
теперь в разведке в штабе
бригады...
...Потрепанная
справка об окончании четырех классов станьковской
школы...
...Его фотография вместе с сестрами Адой и
Еленой. В той самой морской форме. А над фотографией - картина, присланная
недавно в подарок музею из Владивостока. На ней изображен красивый
теплоход, на корме которого красуется: "Марат
Казей"...
Макет партизанского лагеря в станьковском
лесу.
Стенд с фотографиями родных Марата: матери
Анны Александровны, отца Ивана Георгиевича, сестер Ариадны Ивановны и
Елены Ивановны, дяди Николая, с которым Марат пришел в отряд, двоюродного
брата Леонида Балашко - отважного партизана "Двадцать пятого"
отряда.
...Стенд "Боевые друзья отряда". Множество
знакомых лиц. Это только самые близкие.
Стенд
"Партизанский быт".
Совсем недавно приезжал из ГДР
один немец-антифашист, перешедший в бригаду имени Рокоссовского в сорок
третьем году. У него был тогда фотоаппарат. И вот через двадцать шесть лет он
приехал в Минск и подарил музею эти бесценные фотографии, может быть,
единственные в своем роде.
Огромный стенд
документов.
Привожу некоторые приказы командования
партизанской бригады, найденные в Институте истории партии при ЦК
Коммунистической партии Белоруссии. За скупыми, лаконичными словами
каждого приказа - героический поступок юного
разведчика.
Из приказа № 15 по партизанской бригаде
имени Рокоссовского от 23 ноября 1943
года:
За хорошее и
достойное выполнение задания командования бригады старшему группы
т. Мясникову и бойцам-разведчикам Сетуну В. и Казею Марату Ивановичу
от лица службы объявляю
благодарность.
Из приказа №
17 от 15 декабря 1943
года:
За проявленную
смелость в бою 14 декабря 1943 года от лица службы объявляю
благодарность бойцу-партизану Марату
Казею.
Через три дня новый
приказ № 18:
17 декабря во
взаимодействии с партизанскими бригадами им. Чапаева и Ворошилова
бригадой был нанесен удар по колонне автомашин противника на
шоссейной дороге Минск - Слуцк. В результате противник понес большие потери в живой силе и технике.
За удачно
проведенную разведку, за смелые и решительные действия в данной
операции от лица службы объявляю благодарность бойцу-партизану
Марату Ивановичу
Казею.
Из приказа № 26 от 23
февраля 1944 года:
В честь
ознаменования праздника 26-й годовщины Красной Армии, учитывая, что
в этот день им было отлично выполнено боевое задание, от лица службы
объявляю благодарность по штабу бригады разведчику Марату
Казею.
Приказ № 28 от 2
апреля 1944 года:
За
отличное несение караульной службы 2 апреля 1944 года от лица службы
объявляю благодарность бойцу-партизану Марату
Казею...
О том, что
произошло 2 апреля и почему потребовалось издать отдельный приказ с
благодарностью Марату рассказал бывший командир бригады Николай
Юльянович Баранов.
- Марат обнаружил разведку
карателей и полицаев и один завязал с ними бой. На помощь к нему подоспели
партизаны, и вся разведывательная группа немцев была уничтожена. За каждый
бой, за каждую разведку, по правде говоря, нашему Марату полагался бы орден.
Да не очень мы думали в то время о наградах.
1 мая
1944 года по бригаде был издан приказ № 30, в котором "бойцу-партизану
Марату Ивановичу Казею за отлично проведенную боевую операцию"
объявлялась благодарность.
А следующий приказ был
издан не так оперативно - только через месяц после выполнения боевого
задания.
Я видел, как седой мужественный комбриг
Баранов, читая приказ за приказом, которые он сам когда-то подписывал,
остановился у этого последнего и сказал:
- Я ведь за
войну много повидал. И смертей, и трагедий, а вот гибель Марата... Целый месяц
не хотел я подписывать этого приказа. Вот и сейчас его спокойно не могу
читать.
Он тоже короткий и немногословный, этот
приказ №31:
Считать
героически погибшими в неравном бою с немецко-фашистскими
захватчиками начальника разведки штаба бригады т. Ларина В. и
разведчика Казея Марата Ивановича, погибших в неравном бою 11 мая
1944 года в деревне
Хоромицкие.
И то, что в
приказах этого мальчика называют часто полным именем и отчеством,
подчеркивает то особое уважение, которое питали и командование бригады, и
все партизаны к юному бойцу-разведчику.
В музее
хранится Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965
года:
За особые заслуги,
мужество и героизм, проявленные в борьбе против немецко-фашистских
захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
Казею Марату Ивановичу присваивается звание Героя Советского
Союза.
МОЙ
"ЗАПОРОЖЕЦ"
"Запорожец"
с ручным управлением я получила только в июле 1964 года. Хотя я и знала, что
мне по всем законам положена была такая машина, я как-то не очень стремилась
к тому, чтобы использовать это свое право.
А машина во
многом облегчила жизнь, сделала ее красивее, полнее, и не только мне, а и моим
детям, что и говорить.
Я на ней свободно разъезжала в
другие школы города и области, по предприятиям и учреждениям, по
пионерским и туристским лагерям, где мне приходится часто
выступать.
Машина приблизила ко мне Станьково и
Марата. Я езжу туда так часто, как только могу.
Я
побывала по приглашениям в Дзержинске, Борисове, Молодечно, Заславле,
Родошковичах, во всех селах и деревнях на десятки километров вокруг
Станькова, во многих городах и поселках Белоруссии.
В
1967 году совершила турне Минск - Брест - Минск и Минск - Полоцк -
Витебск - Минск. Это было незабываемо.
Люблю
ездить, нравятся дороги, знакомые и незнакомые места, встречи со старыми
друзьями, знакомства с новыми. Услышу запах бензина, так и тянет за
руль.
И везде меня расспрашивают о Марате, и который
раз я все переживаю заново.
В душе у меня рождается
иногда фантазия: хорошую бы машину - объездила бы полсвета! Прежде всего
- из конца в конец свою Белоруссию, а после - все республики. Много у меня
приглашений, но дело, конечно, не только в машине: не хватает
времени.
&n
bsp;Несколько лет назад Ариадна Ивановна ездила в Москву на конференцию
сторонников мира. Там ее избрали в состав президиума
конференции.
Потом в Минске участники этой
конференции рассказывали, что, когда председательствующий предоставил
слово от Белоруссии Ариадне Ивановне Казей и коротко сказал о ее личной
судьбе, все делегаты стоя приветствовали эту женщину и, из особого уважения,
стоя выслушали ее речь.
Да, такой человек, как Ариадна
Ивановна, имеет полное право говорить от имени своего народа и от его имени
требовать предотвращения новой войны, новых человеческих жертв и
страданий.
Я не знаю другого человека, который бы нес
на себе такую нагрузку, как Ариадна Ивановна. Кроме преподавания предмета,
музея, внеклассной работы всей школы, партийной работы (она секретарь
школьной парторганизации, член райкома и Минского обкома партии, а на
республиканском съезде партии, делегатом которого она была, ее избрали
членом Центральной ревизионной комиссии Коммунистической партии
Белоруссии), почти нет дня, чтобы она не выступала перед школьниками
Минска, перед рабочей и учащейся молодежью институтов и техникумов, перед
всеми, кто ее просит об этом. А просят ее
многие.
Каждое выступление Ариадны Ивановны стоит
ей немалой затраты нервной энергии - ведь она каждый раз заново переживает
трагедию своей семьи.
Только подумайте: надо каждый
день подготовиться к урокам, проверить тетради, выступить в другом конце
города, а то и за городом, принять участие в очередном совещании в райкоме. И
десятки других дел.
А еще свой дом, семья, заботы. Она
хозяйка, на плечах которой и стирка, и готовка обеда... И время от времени
открываются старые раны... Но все, кто рядом с ней, так привыкли, что Ариадна
Ивановна Казей со всем справляется, все "вытянет", всем поможет в беде, что,
может быть, подчас и забывают, как же трудно ей все это
достается.
Она не терпит в отношении к себе никаких
скидок...
ПОСЛЕДНИЕ
ПОДРОБНОСТИ
В декабре
1970 года Ариадна Ивановна получила письмо, очень ее взволновавшее. Письмо
пришло из Челябинска, написала его бывшая учительница станьковской школы
В. В. Уржумцева. Она сообщала Аде о том, что встретила в Челябинске Бориса
Митрофановича Цыкункова.
Ариадна Ивановна тут же
отправила в Челябинск письмо, с нетерпением ждала ответа. И вот наконец он
пришел.
Здравствуйте,
уважаемая бывшая маленькая партизанка Ариадна
Ивановна.
Спасибо за письмо, спешу ответить, как
смогу, на Ваши вопросы.
Начну почти по
анкете.
Я был начальником штаба 2-го батальона 59-го
стрелкового полка 81-й стрелковой дивизии, и наш полк стоял в Станькове до 7
мая 1941 года. В этот день полк был поднят по тревоге и двинулся в Гродно, где
нас и застала Отечественная война.
Мы вели
беспрерывные бои с превосходящими силами и техникой врага. С каждым днем
наши силы все больше редели: на третий день я уже командовал батальоном, а
на 6-й день - полком.
5 июля 1941 года наш полк вышел
к деревне Старое Село, западнее Минска. Здесь к нам присоединились
разрозненные группы бойцов, оказавшихся в окружении.
Я взял с собой 62 человека и попытался
прорваться, но, потеряв 11 человек убитыми, вынужден был отойти в
станьковский лес и там остановиться. Из 51 оставшихся бойцов и командиров
только трое были здоровы. Я тоже был ранен в этом бою. У всех гноились
раны, перевязочных средств и медикаментов не было. Положение становилось
просто угрожающим: над каждым раненым кружились рои мух, все нижнее
белье было разорвано на бинты, мы уже изголодались: никаких продуктов питания и надежд на их получение!
Посоветовавшись с
комсоставом, я решил раскрепить бойцов и командиров по деревням.
Необходимо было и подлечить раны, и накормить, и вымыть, и одеть дошедших до крайней степени истощения людей.
Итак, все
бойцы и командиры были распределены по деревням, а Дозмарев ( ' От автора.
Хочу отметить, что и во всех последующих письмах Б. М. Цыкунков везде
пишет не Домарев, как его запомнила Ариадна Ивановна и все, кто знал его в
Станькове, а Дозмарев. В ответ на мое письмо по этому поводу Б. М. Цыкунков
ответил следующее: "Мне пришлось служить вместе с политруком тов.
Дозмаревым И. А. с осени 1936 года и до станьковских событий, поэтому я
утверждаю, что его настоящая фамилия именно Дозмарев Конечно, я допускаю,
что в Станькове товарищи по подпольной rpvnne могли называть его без этой
буквы "з"- на слух она моглпа выпасть. Но Комалова в Станькове тоже звали
Коля, а настоящее его имя -Гетта. Он, кажется, откуда-то родом из Средней
Азии..."), Тактасинов и я остались за нашим бывшим стрельбищем, недалеко
от лесничего Лукашевича и в трех километрах от лесничей Ефросиньи
Вернадской. Там мы вырыли две землянки. Вскоре из Станькова пришел наш
молодой командир Комалов и рассказал о Вашей матери, Анне Александровне
Казей. О том, какую помощь она оказывала с первых дней войны раненым
советским бойцам и командирам.
Я решил
познакомиться с этой женщиной и пошел в
Станьково.
Первый мой разговор с Вашей мамой
произошел у плетня Вашей маленькой избушки.
...Вас я
увидел в тот же день. Вы вышли на крыльцо, Анна Александровна позвала Вас и
сказала:
- А это моя дочь
Ада.
Вы очень неприветливо почему-то посмотрели на
меня и даже не улыбнулись.
Не знаю, запомнили ли Вы
эту встречу. Но я с этого дня знал о Вашей жизни все, и Вы, не подозревая
того, выполняли мои задания.
Ночью я и Тактасинов
проводили Ивана Андреевича Дозмарева на кладбище, и там нас
встретил Марат.
"Вскоре Марат стал выполнять
наши разведывательные задания. Под видом "снабжения" немецких постовых
солдат (он продавал им яйца, молоко) Марат проникал в военный городок и
добывал необходимые сведения.
Это ему удалось
обнаружить никем не охраняемые наши бывшие военные
склады.
Как только раненая нога Ивана Андреевича
Дозмарева стала подживать, Марат показал нам эти склады. (Они были левее
ворот военного городка в густом лесочке, заросшем крапивой.) Дозмарев, я и
Тактасинов ночью взломали двери двух складов. Анна Александровна и Марат
стояли на посту. За одну ночь мы вынесли 132 ручных гранаты "Ф-1", 250
капсюлей и 30 метров бикфордова шнура и все это переправили на нашу партизанскую базу в станьковский лес.
Марат стал связным
между Дозмаревым, Анной Александровной и мною. Несколько раз он доставлял
мне в ботинке очень нужные и срочные сведения.
Мне
было известно; что некоторые разведывательные задания выполняли также и
Вы. Вместе с Маратом Вы расклеивали сводки Совинформбюро, извещали
членов станьковской группы о местах сбора и тому подобное.
Еще до ареста Вашей матери, Дозмарева и
Комалова почти каждую ночь мы ходили на боевые операции, а после заходили в
дом жены Ивана Привалова.
В конце ноября 1941 года к
нам в партизанский лагерь пришли мужчина и женщина из деревни Добринево,
они якобы искали пропавшую корову. Мы их пожалели и
отпустили.
А на второй день они привели к нашему
лагерю отряд немцев. Они окружили на рассвете наш лагерь, мы приняли бой,
который продолжался весь день, почти до ночи. Мы уложили немало немцев, но
и у нас осталось 19 человек, с которыми я и решил уйти на восток в Глусский
район, Бобруйской области, где и стал командиром партизанского отряда
имени Буденного. Дозмарев и Анна Александровна создали в Станькове большую
группу, и все задания эта группа получала непосредственно от меня. Некоторые
засады и операции они проводили самостоятельно, а иногда мы
объединялись.
Я хорошо помню многих моих товарищей
по этим дням партизанской борьбы. На всю жизнь запомнил Вашу мать,
Вашего брата Марата и Вас, хотя Вы-то меня видели всего один раз. Правда,
был еще случай ночью, когда Вы и Марат указали нам дома станьковцев, в которых хозяева прятали военное обмундирование. После этой операции весь наш
отряд был целиком одет и обут. Я был в ту ночь с ребятами, но едва ли Вы
могли узнать меня, да еще ночью.
...В наш отряд часто
приходили Дозмарев и Ваша мать. Они принесли нам и радиоприемник на
батареях. Раза два или три вместе с ними приходил и Марат. Знали Вы об
этом?
Ваша мать знала все, что происходило в нашем
партизанском лагере, принимала участие во многих засадах и операциях.
Многое знал и Комалов. Остальные из станьковской группы знали только то, в
чем сами принимали участие.
В первых числах сентября
и в октябре наша партизанская группа взорвала три небольших железнодорожных моста на линии между станциями Негорелое - Минск, сожгла 4
деревянных моста на различных дорогах, убила около двухсот вражеских
солдат и офицеров и даже одного генерала. Последнее совершила станьковская
группа, когда находилась в засаде на Минском шоссе. После ареста Вашей
матери и Дозмарева мне стало известно от связных, что на их след навел один
станьковский предатель. Мы приговорили его к расстрелу, но, к сожалению,
осуществить приговор не смогли. Комалов и партизаны станьковской группы
пытались освободить своих товарищей, но Комалов был тут же схвачен, а остальные растерялись. Вы знаете, что Дозмарева, Анну Александровну и
Комалова фашисты подвергли пытке, но они ничего им не сказали, не выдали
месторасположение нашего лагеря.
Я и обрадовался, и
очень огорчился, получив Ваше письмо, дорогая Ариадна Ивановна. Дело в том,
что всего неделю назад я возвратился из Белоруссии, где пробыл более месяца,
посетил район действий партизанского отряда имени Буденного, которым я
командовал, да и в Минск заехал, где живут мои боевые друзья. Девять дней я
гулял по Минску, любовался и восторгался им, и не знал совсем, что Вы тоже
здесь живете...
...Письмо было
длинным. Цыкунков рассказывал Ариадне Ивановне, что пишет книгу
воспоминаний о войне, просил ее помощи в уточнении некоторых фамилий, фактов, названий, связанных с деятельностью белорусских
партизан.
Здравствуйте,
Борис Митрофанович!
Пожалуй, за все годы после
окончания войны ни одно событие не взволновало меня так, как получение
Вашего письма.
Если я скажу, что вот уже двадцать
семь лет я разыскивала командира отряда, с которым были связаны мама,
Домарев и Комалов, то Вы поймете мою
радость.
Долгое время я думала почему-то, что этим
командиром был Гриценевич, хотя теперь мне ясно, когда мама с Домаревым
ходили в лес, Гриценевич как "портной" жил еще в Борисовщине, и я ему носила
от мамы "челноки", в которых, как теперь понимаю, были какие-то записки.
Позднее Гриценевич стал командиром отряда
"Боевой".
...Теперь многое для меня прояснилось. И
прежде всего роль Ивана Андреевича Домарева и мамы в создании подпольной
организации в Станькове.
...В общем, Ваше письмо
поставило все на свои места.
Я попыталась
нарисовать схему-карту деревень вокруг Станькова. Посылаю Вам ее и буду
рада, если она Вам поможет в деле, которое Вы
задумали.
...От имени совета музея, от своего
собственного и от имени бывших партизан бригады имени Рокоссовского
приглашаю Вас приехать к нам в Минск. Как мы будем
рады!..
Двадцать шестого
декабря прошел традиционный "День Марата". Как всегда, собрались наши
партизаны, пришли гости из многих общественных организаций, приехали из
других городов. Все было хорошо, хотя ребята из совета музея и я очень
волновались.
А тут еще затеяли мы с партизанами
встречать в лесу Новый, 1971 год. Эта мысль пришла кому-то в голову у меня на
квартире (после "Дня Марата" обычно все приходят ко
мне).
Решили послать "квартирмейстеров" в наш
партизанский лес и восстановить одну из землянок. Вспомнили, как однажды,
после окружения, посылали на такое же дело из Копыльского района Михаила
Бондаревича с друзьями. Вот и на этот раз решили поручить моему бывшему
взводному Мише Бондаревичу, как "имеющему опыт", да еще Саше Ломко
поехать в лес и подготовить все к нашему
приезду.
Саша Лойко - славный парень. Он ровесник
Марата, пришел в отряд четырнадцатилетним мальчишкой, храбро воевал и по
характеру, мне кажется, всегда останется молодым. В отряде он был награжден
медалью "За отвагу", а позже в армии получил орден
Славы.
Они дружат - не разлей водой - с Мишей
Бондаревичем, вот и отправились вместе в лес. К 31 декабря выяснилось, что
поедет 30 человек.
Командир бригады Баранов поехал с
женой и дочкой. Я забрала своих "чад" -Андрюшку и
Аду.
Выехали часов в 11 утра специальным автобусом;
погода не баловала: слякоть, ветер, мокрый
снег.
Нытики поначалу бурчали, но "здоровое ядро"
постепенно победило, стали петь наши партизанские песни и так распелись -
что твой хор. Давно не пели с таким чувством гимн нашей
бригады!
От проселочной дороги надо было свернуть к
партизанскому лагерю. Каково же было наше удивление, когда из "заставы"
выскочил Саша Лойко и потребовал пароль.
Николай
Юльянович Баранов не растерялся и сказал:
- Не
забудем всех погибших за Родину. Отзыв?
- Не
забудем о Чулицких-братьях.
Саша Лойко верен себе и
памяти двух отважных парней, которые предпочли сгореть в огне, но не сдаться
врагу.
Дорога от поворота была расчищена. Мы не
узнавали нашего леса. За эти десятилетия деревья повырастали, от бывших
землянок остались только бугорки и ямы. Только одна землянка стояла честь по
чести, как в давние годы. Из железной трубы валил
дым.
Михаил Бондаревич отдал Баранову
рапорт:
- Товарищ командир бригады! Землянка к
встрече Нового года готова. Докладывает командир взвода Бондаревич.
- Благодарю.
Вольно!
С каким чувством мы переступили порог
землянки!
Стояли вкопанные столы, были устроены
нары, а в бутылках, заправленных жиром и фитилями, сквозь срезы сырой
картошки, горели наши партизанские
"светцы".
Неподалеку от землянки был заготовлен
сухой хворост для костра. Ребята добыли где-то большой котел, мне даже показалось, что он так здесь и оставался с сорок третьего
года.
Погода изменилась к лучшему, а может, просто
здесь, в лесу было затишье.
Мы бродили по нашему
бывшему лагерю, пытались отыскать места своих землянок и, несмотря на то,
что все было припорошено снегом, кое-что
опознали.
Запалили большой
костер.
И опять пели
песни.
.
..С давнего 1945 года, когда я на вокзале в Минске от
Ларисы узнала страшную весть, что Марата нет в живых, и посейчас для меня
непостижима его смерть, как и смерть многих людей, близких и родных мне по
духу, идеям, устремлениям. Для меня Марат - это не только мой брат по крови,
это мой единомышленник, однополчанин, какими я считаю и Бронислава
Татарицкого, и Володю Тобияша, и Женю Сороку, и братьев Чулицких, и Мишу
Урсола, и многих-многих других, кто сложил свои головы в войну. Все годы
живет во мне неугасимое чувство их бессмертия...
Вот
почему в Андрее для меня всегда жив Марат, вот почему я каждый раз
вздрагиваю и жду чуда, когда вижу мальчика, похожего на
Марата.
Но больше всего и чаще всего, называйте это
мистикой или как угодно, мне кажется, что и Марат и все эти ребята - герои
нашей бригады - еще не отвоевались и где-то далеко от меня борются,
побеждают: им просто некогда вернуться домой, а я за их спинами (может быть,
они стоят на рубежах нашей страны) спокойно живу, работаю в школе, ращу
детей, радуюсь жизни, тревожусь по пустякам и никак не могу найти только
одного: такого большого дела, которое бы сравнилось с их подвигом, длящимся
вот уже 30 лет.
Что бы я ни делала и сколько бы ни
делала - мало для того, чтоб сравнить мой труд с их бессмертием и величием, с
их самоотверженностью и жертвой, с их духовной красотой и
благородством.
Николай Юльянович Баранов рассказал,
как Марат спас ему жизнь и обеспечил победу в крупной операции. Это было
тогда, когда штаб бригады почти всю зиму стоял в Румке. Неожиданно,
большими силами, немцы окружили Румок. Баранов оказался вдвоем с Маратом.
Нужно было пробиться в отряд имени Фурманова, который был поблизости, и
предупредить, чтобы он ударил в тыл немцам. Не было другого пути, кроме как
через обстреливаемое поле. И Баранов решил идти сам. Но Марат
сказал:
- Товарищ командир, вы очень большой, они
вас все равно убьют, а я на Орлике проскочу.
Он так
просил Баранова, что тот наконец нехотя согласился и написал записку
командиру фурмановцев.
Марат вскочил на Орлика,
будто сросся с ним, и галопом помчался через поле. По нему стреляли, но не
ранили ни Орлика, ни Марата.
Предупрежденный отряд
Фурманова вовремя пришел на помощь, а позже и вся бригада ударила по
немцам...
- В другой раз,- рассказывал Баранов,-
Марат, находясь в разведке, увидел идущую по шоссе легковую машину. Он
обстрелял ее и убил шофера. В машине сидел перепуганный немецкий майор.
Марат разоружил его и привел в лагерь. Майор вез из Минска секретнейшие
документы, план новой карательной операции против партизан. Все документы
вместе с майором тут же переправили на Большую
землю.
Потом Михаил Иванович Колечиц, бывший
заместитель командира бригадной разведки, рассказал одну забавную историю,
тоже связанную с Маратом.
Вместе с Маратом они были
командированы на поиски рации, сброшенной для партизан советским
самолетом на парашюте, недалеко от деревни Самохваловичи, летом 1943
года.
Чтобы добраться туда, нужно было ехать по
шоссейной дороге Минск - Негорелое, которой широко пользовались фашисты.
Для конспирации Михаил Иванович облачился в
наряд попа - рясу, крест и прочее он достал в добриневской церкви. Ехали на
подводе, Марат правил лошадью. На возу под сеном спрятали
автоматы.
Когда встречались фашисты, Михаил пел
церковные псалмы - советские частушки на церковный мотив. Но когда на
дороге появились два фашиста на велосипедах, Марат выхватил автомат и
открыл по ним огонь. Велосипедисты были убиты, но в это время из-за горочки
появилась целая группа велосипедистов и открыла огонь по "батюшке" и его
вознице. Колечицу и Марату пришлось бросить подводу и, прикрывая друг
друга, отходить через поле к лесу.
- За что ты,
кажется, и получил выговор? - спросил Баранов.
-
Уж не помню,- дипломатично ушел от ответа
Колечиц.
- А я помню, приказ-то выполнен не был,
рацию в бригаду ты не доставил.
Это всех
развеселило.
Сколько тут рассказов и воспоминаний
посыпалось! Никого не надо было уговаривать - рассказывали и о себе, и о
товарищах. И почему-то оказалось, что в трудной партизанской жизни было
много и смешных историй.
Андрейка привез с собой
пластилин и, слушая рассказы, стал заниматься своим любимым делом. На этот
раз он лепил Орлика и Марата. А потом - лошадь, запряженную в возок,
"батюшку" и Марата на возке. Когда он лепит, то забывает обо всем на свете. Но
живых лошадей этот "крестьянский потомок" почти не видел, и они у него не
очень-то получаются. Советчиков было столько, что Андрей уже стал сердиться:
он ведь мужчина самостоятельный...
Еду приготовили
партизанскую: вареная бульба, крестьянская колбаса, вареное мясо (оно
получилось ужасно пересоленным, но и это вызвало смех: чего-чего, а соли у нас
в отряде было мало). Бондаревич и Лойко раздобыли малость настоящего
самогона у старых партизанских связных, настоящую "моршанку", которую
почему-то все с удовольствием курили.
Ровно в полночь
мы салютовали Новому году из охотничьих
ружей.
Выбрали красивую молодую ель, и Лойко с
Андреем украсили ее игрушками и электрическими гирляндами. Питание шофер
приспособил от автобусных аккумуляторов. Это уже было "сверх программы"
- такое партизанам и сниться не могло! Не мог нам сниться и приемник с
проигрывателем "Бригантина", и пластинки из коллекции
Бондаревича.
Спать не
хотелось.
Под утро мы бродили по лесу, и ребята,
забравшись на деревья, обсыпали нас сверху
снегом.
Никогда не забуду этот Новый
год!
Мои старые друзья на глазах помолодели. Словно к
ним вернулось все лучшее из тех далеких партизанских лет. Будто мы
возвратили себе кусочек нашей трудной боевой
юности...
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Часто ее
одолевает несбыточная, какая-то навязчивая мечта: собрать бы всех, кого она
узнала за эту войну, кто помогал ей, выручал из многих бед, делился последним
куском хлеба, отдавал с трудом добытое оружие и патроны, одевал и обувал,
прятал от фашистов и полицаев, рискуя жизнью, выносил на носилках, вывозил
на лошадях, нес на руках, вывез на самолете через линию фронта, делал
операции в лесу и госпиталях, лечил и ухаживал, давал для переливания кровь,
ободрял в трудные минуты...
Да, это ее
мечта.
Но с тех пор как я вновь, через двадцать пять лет,
встретился с Ариадной Ивановной, эта мечта овладела и
мною.
Вот я и попытался, как мог и успел, собрать
некоторых "под одну крышу" своей книги.
Много их,
этих добрых, прекрасных и незабываемых людей, куда больше, чем здесь
упомянуто. Память о них - живых и мертвых - Ариадна Ивановна Казей свято
хранит в своем сердце.
Навсегда.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ОТ
АВТОРА......................3
МАМА.........................
5
БАБУШКА ЗОСЯ.....................
14
ОТЕЦ.........................
10
ВОЙНА........................
36
АРЕСТ....................
50
ОДНИ.........................
59
НАХОЖУ "ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ".............
64
БУДНИ.......................
75
ВО ВРАЖЕСКОМ КОЛЬЦЕ................
87
НА ПУТИ К БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЕ.............
113
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ,
ДВИГАТЬСЯ.............. 123
НЕМНОГО РАЯ,
НЕМНОГО АДА............. 142
К РОДНЫМ
ПЕНАТАМ ................. 148
МАРАТ
.......,................ "54
ВОЙНА ОКОНЧЕНА!
ПОБЕДА! НАКОНЕЦ-ТО!.......
166
МУЗЕЙ.....................
1S2
МОЙ "ЗАПОРОЖЕЦ"...................
182
ПОСЛЕДНИЕ ПОДРОБНОСТИ..............
194
ЗАКЛЮЧЕНИЕ...................
203
Для среднего и старшего
возраста
Борис Александрович
Костюковский
ЖИЗНЬ КАК ОНА
ЕСТЬ
Ответственный
редактор
Е. М.
Подкопаева
Художественный
редактор
С. И.
Нижняя
Технический редактор И. Я. Колодная
Корректоры Г. Ю. Гнетова и К И.
Каревская
Сдано в набор 25/VI 1973 г. Подписано
к печати 16/Х 1973 г. Формат 60X90
Уч.-изд. л. 12,86. Тираж 75 000 экз. Л12946. Заказ № 975. Цена 54 коп.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство "Детская литература".
Москва, Ueirrp, М. Черкасский пер., I. Ордена Трудового Красного Знамени
фабрика "Детская книга" № 1 Росглавполиграфпрома Государственного
комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и
книжной торговли, Москва, Сущевский вал. 49,
|

